|
||||
|
|
III ОТ “ЖЕЛЕЗОК” К ПРОГРАММАМ 9 АЛЛЕН УИЛЛИС Дух Мы начинаем свое существование в виде небольшого утолщения на конце длинной нити. Клетки начинают расти, нарост постепенно приобретает человеческую форму. Конец нити оказывается спрятан внутри, нетронутый и защищенный. Наша задача в том, чтобы сохранить его и передать дальше. Мы на короткое время расцветаем, учимся танцевать и петь, приобретаем несколько воспоминаний, которые увековечиваем в камне — но вскоре увядаем и вновь теряем форму. Конец нити теперь находится в наших детях и тянется сквозь нас, уходя в таинственную глубь веков. Бесчисленные утолщения образовывались на этой нити, расцветали и увядали, как увядаем сейчас мы. Не остается ничего, кроме самой нити жизни. В процессе эволюции меняются не определенные наросты на нити, но наследственные структуры в ней самой. Мы — хранители духа. Нам неизвестно как, почему и где это происходит. В процессе постоянного созидания, мы несем дух на плечах, в глазах, в руках, с мукой нащупывающих дорогу сквозь туманное настоящее в непознанное, непознаваемое будущее. Дух зависит от нас полностью, и все же мы не ведаем, что это такое. Мы подвигаем дух вперед с каждым ударом сердца, наполняем им произведения наших рук и разума. Мы гаснем, передаем его нашим детям, гибнем и растворяемся в забвении. Дух остается жить, становится все больше, богаче, сложнее и загадочнее. Нас явно используют. Не должны ли мы знать, кому служим? Кому мы верны до последнего вздоха? Что мы ищем? Чего можем желать помимо того, что уже имеем? Что такое дух? Жак Монод пишет: “Мы знаем или полагаем, что река и камень возникли в результате свободной игры физических сил, которым мы не можем приписать никакой цели, никакого проекта или намерения (разумеется, если мы принимаем основное положение научного метода, утверждающее, что природа объективна, а не проективна).” Подобный подход выглядит очень привлекательно. Мы еще помним, как всего несколько поколений назад царило обратное мнение: камни желали падать, река хотела петь или разливаться. Своенравные духи наполняли мир и делали с природой все, что хотели. Мы знаем, насколько возросло наше понимание и контроль, когда мы решили рассматривать природные объекты и явления, как лишенные намерений. Камень ничего не хочет, у вулкана нет цели, река не жаждет влиться в море, ветер не стремится попасть куда-либо. Но существует и другая точка зрения. Анимизм примитивных народов — не единственная альтернатива научной объективности. Эта объективность может быть верна для тех периодов времени, которые мы в состоянии осознать, но неверна для периодов бесконечно более продолжительных. Гипотеза, что свет распространяется по прямой линии вне зависимости от близлежащих масс, годится для топографических измерений на ферме, но не работает, когда надо составить карту далекой галактики. Точно так же предположение, что природа “просто существует” и не имеет никакой цели, служит нам, когда речь идет о днях, годах и человеческих жизнях, но может послужить плохим путеводителем по равнинам вечности. Дух воспаряет, материя разрушается. Дух тянется ввысь, подобно языкам пламени, парит, как танцор в прыжке. Он созидает формы из ничего, подобно Богу — он сам есть Бог. Дух существовал с самого начала, даже если это начало было концом какого-то предыдущего начала. Если мы заглянем достаточно далеко в прошлое, мы увидим первоначальный туман, в котором дух существует лишь как движение атомов, дрожание чего-то, не желающего пребывать в покое и в холоде. Материя сформировала бы гомогенную, однообразную вселенную, неподвижную и законченную. Дух создал Землю, небеса и ад, вихри и конфликты, пылающее солнце, чтобы прогонять тьму и освещать добро и зло; создал мысль, память, желание; создал лестницу, возносящуюся к небесам, на ступенях которой стоят все более сложные существа, тянущиеся вверх, — а небеса все отступают, и за достигнутыми вершинами открываются новые и новые… И конца этому нет, поскольку дерзновение духа бесконечно; он взмывает вверх, кружится, снова ныряет, но всегда стремится ввысь, безжалостно используя низшие формы для создания высших форм, двигаясь в сторону все большего самосознания, интуиции, спонтанности, в сторону все большей свободы. Частицы становятся одушевленными. Дух отделяется от материи, которая вечно тянет его обратно, пытаясь сделать неподвижным. Крохотные создания извиваются в теплых океанах. Более сложными становятся те крохотные существа, которых на мгновение касается ищущий дух. Они приближаются друг к другу, соприкасаются — дух начинает создавать любовь. Что-то происходит в момент соприкосновения. Они умирают, умирают один за другим, бесконечно. Кто помнит икринки в реках прошлого? Кто может посчитать бесчисленных рыб в древних морях? Кто услышит шум умолкнувшего навеки прибоя? Кто оплачет кроликов равнин, пушистых леммингов? Они умирают один за другим, умирают, но успевают почувствовать Прикосновение, и что-то происходит. Дух улетает и продолжает создавать новые тела — все более сложные сосуды для передачи растущего духа грядущим поколениям. Вирусы становятся бактериями, бактерии превращаются в водоросли, те — в папоротник. Удар духа раскалывает камни, и из трещин растут деревья. Амеба протягивает свои мягкие бесформенные ручки, чтобы познать мир вокруг себя, чтобы присвоить его себе; она растет, становится все сложнее, хочет узнать больше, наполняется духом. Морская анемона становится кальмаром, тот превращается в рыбу. Извивающееся движение перерастает в плавание, а то — в ползанье. Рыба становится слизняком, слизняк превращается в ящерицу. Ползанье становится ходьбой, бегом, полетом. Живые существа стремятся друг к другу и обмениваются духом. Тропизм переходит в обоняние, становится интересом, перерастает в вожделение и, наконец, в любовь. От ящерицы — к лисе, к обезьяне, к человеку. В одном взгляде, в одном слове мы сближаемся, притрагиваемся друг к другу, умираем, движемся в неведомом для нас служении духу, несении его вперед, в будущее. Все больше его крылья, все величественнее скачки. Мы любим тех, кто далеко, кто давно умер. * * * “Человек — это сосуд духа, — пишет Эрих Хеллер. — Дух — это путешественник, который, проходя сквозь землю людей, заставляет человеческую душу следовать за ним к чисто духовной Его цели.” Если рассмотреть тропу духа вблизи, мы увидим, что она извивается и блестит, как след улитки в ночном лесу. Однако при взгляде с высоты исчезают мелкие повороты и становится заметным основное направление. Человек достиг вершины, с которой он может оглянуться на свое прошлое. На тысячу лет назад он видит ясно, следующая тысяча лет видна сквозь дымку. Горизонт отстоит от нас на миллионы лет. За извилистой тропой нашего недавнего прошлого простирается блистающая дорога через бескрайнюю равнину. Она проложена не человеком и не им окончится — но человек идет по ней сейчас, находит кратчайший путь или идет в обход. Для кого мы прокладываем эту дорогу, кто пойдет по ней после нас? Не человек, поскольку вот его первый след. Не жизнь, поскольку дорога уже существовала, когда жизни еще не было. Этот путешественник — дух, и сейчас он проходит по царству людей. Мы не создали дух, не владеем им и не можем его определить — мы лишь несем его. Мы забираем его у неоплаканных и забытых созданий, несем сквозь отведенное нам время и передадим, возросший или уменьшившийся, тем, кто последует за нами. Дух — путешественник, а человек — корабль. Дух создает и дух разрушает. Созидание без разрушения невозможно; разрушение без созидания питается прежним созиданием, сводит форму к материи, стремится к неподвижности. Дух созидает больше, чем разрушает (правда, так бывает не во всякий период, и даже не во всякую эпоху; отсюда блуждания духа, движение назад, стремление материи к покою и триумф разрушения), и именно преобладание созидания делает общее направление дороги таким определенным. От первоначального тумана материи до спиральных галактик и солнечных систем, работающих точно, как часы, от расплавленных скал до земли, покрытой почвой, укутанной воздушным одеялом и омытой водой, от тяжести к легкости и к жизни, от ощущения до восприятия, от памяти до сознания — сегодняшний человек держит зеркало, в которое дух видит себя самого. В реке крутятся водовороты, течения поворачивают назад. Сама река пересыхает, исчезает, снова возникает и движется вперед. Общее направление движения — рост формы, все большее осознание, от материи к разуму и к самосознанию. Гармония человека и природы может быть найдена в продолжении этого путешествия по старинной дороге, ведущей к большей свободе и осознанию. Размышления В этом поэтическом отрывке психиатр Аллен Уиллис описывает странный, сбивающий с толку взгляд современной науки на наше место в мире. Многие ученые, не говоря уже о представителях гуманитарных наук, с трудом могут согласиться с подобным взглядом и ищут некую духовную сущность, возможно, неосязаемую, которая отличала бы живые существа, в особенности человеческие существа, от неодушевленной материи. Как дух возникает из атомов? Уиллис понимает под “духом” нечто отличное от подобной сущности. Он описывает осмысленную на первый взгляд дорогу эволюции так, словно за ней стоит некая управляющая этой эволюцией сила. Если такая сила и вправду имеется, скорее всего это то, что Ричард Доукинз в следующей главе называет “выживанием простых репликаторов”. В предисловии Доукинз беспристрастно замечает: “Мы — машины для выживания, автоматические аппараты, запрограммированные на сохранение эгоистических молекул, известных под именем “гены”. Эта истина не перестает меня удивлять. Хотя я узнал об этом много лет тому назад, я никак не могу к этому привыкнуть. Я надеюсь только на то, что мне удастся удивить других.” Д.Р.Х. 10 РИЧАРД ДОУКИНЗ Эгоистические гены и эгоистические мемы Эгоистические геныВ начале была простота. Объяснить возникновение даже простой вселенной достаточно трудно. Я согласен с тем, что еще труднее было бы пытаться объяснить внезапное рождение совершенно готовой сложной организации — жизни или существа, способного создать жизнь. Дарвинская теория эволюции путем естественного отбора удовлетворительна, поскольку она показывает, каким образом простота может измениться в сложность, как беспорядочные атомы могут группироваться во все усложняющиеся структуры до тех пор, пока эти структуры не превратятся в людей. Дарвин предложил решение фундаментальной проблемы нашего существования, и это решение — единственное правдоподобное из всех предложенных до сих пор. Я попытаюсь объяснить эту великую теорию более обобщенно, чем это обычно делается; обратимся к тем временам, когда эволюция еще не начиналась. Дарвинское “выживание наиболее приспособленного” на самом деле является частным случаем более общего закона выживания наиболее устойчивого. Вселенную населяют устойчивые вещи. Устойчивая вещь — это набор атомов, достаточно долговременный или обычный для того, чтобы заслуживать названия. Это может быть единственный в своем роде набор атомов, как, например, Маттерхорн, существующий достаточно долго, чтобы получить собственное имя. Это может быть класс объектов, таких, как дождевые капли, возникающие достаточно часто, чтобы получить общее название, хотя каждая из них в отдельности живет недолго. Вещи, которые мы видим вокруг нас и которые пытаемся понять — камни, галактики, океанские волны — представляют из себя в большей или меньшей мере устойчивые сочетания атомов. Мыльные пузыри чаще бывают шарообразными, потому что это устойчивая форма для тонких пленок, наполненных газом. В космическом корабле вода становится устойчивой в сферической форме, но на земле устойчивая форма воды из-за силы тяжести — плоская горизонтальная поверхность. Кристаллы соли имеют кубическую форму, потому что это устойчивая конфигурация для сочетания натрия и ионов хлора. В солнце простейшие из всех атомов, атомы водорода, соединяются попарно, образуя гелий, поскольку в данных условиях гелий более устойчив. Еще более сложные атомы родятся внутри звезд по всей вселенной. Они появились во время Большого Взрыва, который, согласно доминирующей сейчас теории, положил начало вселенной. Именно оттуда и произошли все элементы, из которых сделан наш мир. Иногда встретившиеся атомы соединяются в процессе химических реакций, образуя более или менее устойчивые молекулы. Эти молекулы могут быть очень большими. Такой кристалл, как бриллиант, можно рассматривать как одну-единственную молекулу, чья устойчивость вошла в поговорку. Эта молекула весьма проста, поскольку ее внутренняя атомная структура бесконечно повторяется. В современных живых организмах есть другие, очень сложные гигантские молекулы, чья сложность проявляется на разных уровнях. Гемоглобин в нашей крови — типичная молекула белка. Она построена из цепочек меньших молекул, аминокислот, каждая из которых состоит из нескольких десятков атомов, расположенных по определенной схеме. В молекуле гемоглобина 574 молекулы аминокислот. Они расположены четырьмя цепочками, закрученными друг вокруг друга так, что результатом является удивительно сложная общая структура. Модель молекулы гемоглобина напоминает пышный куст терновника. Но в отличие от настоящего терновника, форма этой молекулы не случайна. Она представляет собой определенную неизменную структуру, повторенную идентично — не сломана ни одна “веточка”, не перепутан ни один изгиб — около шести тысяч миллионов миллионов миллионов раз в среднем человеческом теле. Точная форма куста терновника, которую имеет молекула белка, такого, как гемоглобин, устойчива в том смысле, что две цепочки, состоящие из одинаковых последовательностей аминокислот, стараются, подобно двум пружинам, свернуться в совершенно такую же трехмерную спиральную структуру. Гемоглобиновый терновник скручивается в вашем теле в свою любимую “позу” приблизительно четыреста миллионов миллионов раз в секунду, и столько же “кустиков” каждую секунду прекращают существование. Гемоглобин, существующий в наше время, — хороший пример того принципа, что атомы образуют устойчивые сочетания. Еще до возникновения на земле жизни могла начаться некая рудиментарная эволюция молекул, движимая законами физики и химии. Здесь нет нужды думать о замысле, цели или направленности. Если группа атомов под воздействием некой энергии принимает устойчивую конфигурацию, скорее всего, она такой и останется. Самая ранняя форма натурального отбора была просто выбором устойчивых форм и отклонением неустойчивых форм. В этом нет никакого секрета. Так и должно было происходить по определению. Из этого, разумеется, не вытекает, что мы можем объяснить возникновение таких сложных существ, как человек, действием только этого принципа. Бесполезно брать нужное количество атомов и трясти их в присутствии некой внешней энергии до тех пор, пока они случайно не улягутся в нужном порядке и на свет не появится Адам. Таким способом вы сможете получить молекулу, состоящую из нескольких десятков атомов, но человек состоит из более чем тысячи миллионов миллионов миллионов миллионов атомов. Если вы все-таки решите попытаться сделать человека, вам придется трясти шейкер с вашим биохимическим коктейлем в течение такого долгого времени, что возраст вселенной покажется по сравнению с ним одним мгновением — и даже тогда у вас ничего не выйдет. И здесь теория Дарвина, в наиболее общей ее форме, приходит нам на выручку. Теория Дарвина стартует там, где кончается медленное случайное формирование молекул. Рассказ о возникновении жизни, который я сейчас вам предложу, по необходимости будет предположительным; по определению, в то время не было никого, кто мог бы увидеть, как все происходило на самом деле. Существует несколько конкурирующих теорий, но все они имеют нечто общее. Упрощенное описание, которое я дам, возможно, не так уж далеко от истины. Мы не знаем, какое химическое сырье было на земле в изобилии до начала жизни, но среди возможных кандидатов можно назвать воду, двуокись углерода, метан и аммиак — все эти простые элементы присутствуют хотя бы на некоторых планетах нашей солнечной системы. Химики пытались сымитировать химические условия на молодой Земле. Они собрали эти простые элементы в пробирке и обеспечили энергию в виде ультрафиолетового света или электрической искры — имитации первичных молний. После нескольких недель эксперимента в пробирке обычно находят что-нибудь интересное: жидкий коричневый супчик, в котором плавают молекулы сложнее тех, что были там первоначально. В частности, там были найдены аминокислоты — строительные блоки белков, одного из двух основных классов биологических молекул. До этих экспериментов считалось, что естественно возникающие аминокислоты являются индикатором присутствия жизни. Если бы их нашли, скажем, на Марсе, то были бы почти уверены в том, что там есть жизнь. Однако теперь их присутствие означает лишь наличие некоторых простых газов в атмосфере, вулканов, солнечного света или грозовой погоды. В последнее время лабораторные симуляции химических условий на земле до возникновения жизни произвели органические субстанции под названием пурины и пиримидины. Эти субстанции — строительные кирпичики генетической молекулы, самой ДНК. Вероятно, в результате аналогичных процессов и образовался первоначальный “бульон”, из которого, по мнению биологов и химиков, состояли моря от трех до четырех миллиардов лет назад. Органические вещества концентрировались в некоторых местах, возможно, в высыхающей на берегу пене или в маленьких обособленных каплях. Под дальнейшим воздействием энергии — например, ультрафиолетового излучения солнца — они образовывали более крупные молекулы. Сейчас большие органические молекулы не просуществовали бы достаточно долго, чтобы быть замеченными — их сразу бы поглотили и расщепили бактерии или другие живые организмы. Но бактерии и все остальные организмы появились позже, а в те дни крупные органические молекулы могли спокойно плавать в загустевающем “супе”. В какой-то момент там случайно возникла особенно интересная молекула. Мы назовем ее репликатором. Это вовсе не была самая большая или самая сложная из существовавших тогда молекул, зато она обладала уникальным свойством: она могла создавать собственные копии. Может показаться, что подобная случайность слишком неправдоподобна. Так оно и есть. Это было чрезвычайно маловероятно. В период времени, равный человеческой жизни, настолько маловероятные события можно считать практически невозможными. Именно поэтому вам никогда не удастся выиграть главный приз в лотерею. Но в наших человеческих оценках того, что вероятно и что нет, мы не привыкли брать в расчет периоды в сотни миллионов лет. Если бы вы покупали лотерейный билет каждую неделю в течение ста миллионов лет, вы, скорее всего, выиграли бы несколько главных призов. На самом деле, молекулу, способную самовоспроизводиться, вовсе не так уж трудно вообразить; кроме того, она должна была образоваться всего один раз. Представьте себе, что репликатор — это нечто вроде матрицы, шаблона. Представьте, что это большая молекула, состоящая из сложной цепи молекул, представляющих из себя различные строительные блоки. В бульоне, где плавает репликатор, полным-полно маленьких строительных блоков. Предположим, что каждый из строительных блоков тяготеет к блокам своего типа. Каждый раз, когда строительный блок из бульона попадает на репликатор вблизи от своего “родственника” скорее всего, он там и остается. Прилипающие таким образом блоки автоматически будут расположены в том же порядке, как и блоки самого репликатора. Этот процесс может продолжаться в виде нарастания, слой за слоем, новых блоков. Именно так формируются кристаллы. С другой стороны, две цепочки могут разделиться, и мы получим два репликатора, каждый из которых может продолжать производить собственные копии. Еще более сложная возможность состоит в том, что каждый блок тяготеет не к собственному типу, а к какому-то иному типу блоков, а те отвечают “взаимностью”. В этом случае репликатор будет служить матрицей не для идентичной копии, а для собственного “негатива”, который, в свою очередь, произведет точную копию первоначального позитива. Для нас неважно, был ли первоначальный процесс репликации позитивно-позитивным или позитивно-негативным, хотя стоит заметить, что современные аналоги первого репликатора, молекулы ДНК, используют позитивно-негативную репликацию. Важно здесь то, что в мире внезапно появился новый тип “стабильности”. До этого в бульоне, скорее всего, не преобладал ни один из типов сложных молекул, поскольку каждый из них зависел от строительных блоков, случайно сложившихся в нужную устойчивую конфигурацию. Как только появился репликатор, он быстро наводнил своими копиями все моря. В результате меньшие строительные блоки стали редкостью и другие большие молекулы стали формироваться все реже и реже. Итак, мы получили большое количество идентичных копий. Но теперь пора вспомнить о важном свойстве процесса самовоспроизводства: он не совершенен. В нем случаются ошибки. Я надеюсь, что в этой книге нет опечаток; однако, если вы как следует поищете, вы можете обнаружить одну или две. Скорее всего, они не сильно изменят значение предложения, поскольку будут ошибками “первого поколения”. Но вообразите, что происходило до изобретения книгопечатания, когда такие книги, как Евангелия, переписывались от руки. Какими бы аккуратными они ни были, все писцы обязательно делали по несколько ошибок, а некоторые из них не останавливались и перед небольшим сознательным “улучшением”. Если бы все они списывали с одного основного списка, значение не было бы серьезно искажено. Но если списки делались с других списков, а те, в свою очередь, с более ранних манускриптов, ошибки начинали накапливаться и становиться все более серьезными. Мы считаем, что неверное копирование — это плохо, и в случае с человеческими документами трудно придумать пример, в котором ошибка улучшала бы текст. Думаю, что ученые седьмого века по крайней мере положили начало чему-то великому, когда ошибочно перевели “молодая женщина” греческим термином, обозначавшим “девственница”. Результатом явился текст пророчества: “Девственница понесет и родит сына…” Так или иначе, мы увидим, что ошибочное копирование в биологическом самовоспроизводстве может привести к реальному улучшению; более того, для прогрессивной эволюции некоторое количество ошибок было просто необходимо. Мы не знаем, насколько аккуратными были копии первых репликаторов. Их современные потомки, молекулы ДНК, удивительно аккуратны по сравнению с самым лучшим из человеческих процессов воспроизводства, но даже они иногда допускают ошибки, и именно эти ошибки делают эволюцию возможной. Скорее всего, первоначальные репликаторы ошибались гораздо чаще, но в любом случае мы можем быть уверены в том, что ошибки были и что эти ошибки обладали свойством накапливаться. По мере того, как ошибки совершались и распространялись, первичный бульон наполнялся вариантами реплицирующихся молекул вместо их идентичных копий. Все они произошли от одного и того же “предка”. Были ли некоторые варианты более многочисленными, чем другие? Почти наверняка. Некоторые варианты были изначально устойчивее других. Определенные молекулы, однажды сформировавшись, распадались реже других. Эти типы должны были стать более многочисленными в бульоне, не только в результате прямого логического следствия их “долгожительства”, но также потому, что у них было больше времени на самовоспроизводство. Таким образом, долгоживущие репликаторы начинали преобладать в числе и, при прочих равных, составили бы “эволюционную тенденцию” к более долгому существованию в популяции молекул. Однако остальные факторы были, скорее всего, не одинаковыми, и другой особенностью варианта репликатора, особенностью, которая должна была быть еще важнее в распространении его в популяции, была скорость репликации, или “плодовитость”. Если молекулы репликатора типа А воспроизводились со скоростью одна в неделю, а молекулы репликатора типа Б — со скоростью одна в час, то нетрудно увидеть, что вскоре молекулы типа Б стали бы преобладать над молекулами типа А, даже если те и жили бы намного дольше. Таким образом, в супе по-видимому присутствовала “эволюционная тенденция” к большей “плодовитости” молекул. Третья характеристика молекул репликатора, которая была бы выбрана, это аккуратность воспроизводства. Если молекулы типа Х и типа У живут одно и то же время и воспроизводятся с одинаковой скоростью, но при этом Х ошибается в каждой десятой копии, в то время как У — только в каждой сотой, очевидно, что У будет более многочисленной. Х в популяции теряет не только своих ошибочных “детей” но и всех их потомков, как действительных, так и возможных. Если вы уже знаете что-то об эволюции, вы можете увидеть в последнем пункте нечто слегка парадоксальное. Можно ли совместить идею о том, что ошибки копирования — необходимая предпосылка для возникновения и существования эволюции, с тем фактом, что естественный отбор предпочитает точное копирование? Ответ состоит в том, что хотя эволюция, в каком-то туманном смысле, кажется “хорошей штукой” в особенности потому, что ее продукт — это мы сами, на самом деле ничто не “желает” эволюционировать. Эволюция — это нечто, что происходит волей-неволей, вопреки стараниям репликаторов (и сейчас — генов) предотвратить ее. Жак Монод замечательно сказал об этом в своей лекции памяти Герберта Спенсера, после того, как он остроумно заметил: “Еще один интересный аспект эволюции состоит в том, что каждый считает, что понимает ее!” Вернемся к первичному бульону; он должен был быть населен устойчивыми молекулами в том смысле, что либо индивидуальные молекулы долго существовали, либо они быстро или аккуратно размножались. Эволюционные тенденции к этим трем видам стабильности имели место в следующем смысле: если бы вы взяли две пробы бульона в разное время, более поздняя содержала бы большее количество долгоживущих-плодовитых-аккуратно воспроизводящихся вариантов. Примерно то же самое имеет в виду биолог, говорящий об эволюции живых существ. Принцип здесь один и тот же — естественный отбор. Должны ли мы, в таком случае, называть первоначальные молекулы-репликаторы “живыми”? Это совершенно все равно. Я мог бы сказать вам: “Дарвин — величайший из когда-либо живших людей”, а вы могли бы ответить: “Нет, Ньютон!”, но я надеюсь, что этот спор не продлился бы долго. Дело в том, что каким бы образом он ни разрешился, это не затронет ничего существенного. Факты жизни и достижений Дарвина и Ньютона останутся совершенно неизменными вне зависимости от того, назовем ли мы их “великими” или нет. Подобно этому, история молекул-репликаторов, скорее всего, развивалась именно так, как я рассказываю, вне зависимости от того, назовем ли мы их “живыми”. То, что многие из нас не способны понять, что слова — лишь инструменты для нашего пользования, причинило немало страдания людям. Простое присутствие в словаре слова “живой” еще не означает, что оно с необходимостью должно относиться к чему-то определенному в реальном мире. Вне зависимости от того, назовем ли мы ранние репликаторы живыми, они были предками жизни, нашими отцами-основателями. Следующее важное звено в цепочке аргументов, подчеркнутое самим Дарвином (хотя он говорил не о молекулах, а о животных и растениях), это конкуренция. Первичный бульон не мог “прокормить” бесконечное количество молекул-репликаторов, хотя бы потому, что размеры Земли не бесконечны; были и другие важные ограничивающие факторы. В нашем представлении о репликаторе, действующем как шаблон или матрица, мы полагали, что его окружает бульон, изобилующий маленькими строительными блоками молекул, необходимых для производства копий. Но когда репликаторов стало много, строительные блоки начали использоваться с такой скоростью, что превратились в редкий и ценный ресурс. За них боролись разные типы репликаторов. Мы рассмотрели факторы, которые были способны увеличить число избранных репликаторов. Теперь мы видим, что остальные варианты должны были уменьшиться в числе из-за конкуренции; в конце концов, многие типы молекул прекратили свое существование. Между типами молекул-репликаторов была борьба за существование. Они не знали, что борются, и не волновались по этому поводу. Борьба происходила без больших переживаний — в действительности там вообще не было никаких переживаний. Но борьба, тем не менее, присутствовала — в том смысле, что любая ошибочная репликация, дававшая более высокий уровень стабильности или новое умение уменьшать стабильность соперников, автоматически сохранялась и размножалась. Процесс улучшения был кумулятивным. Пути увеличения собственной стабильности и уменьшения стабильности соперников становились все более сложными и эффективными. Некоторые варианты могли даже “открыть” способ химического разложения молекул-соперниц и использовать освободившийся строительный материал для создания собственных копий. Эти прото-хищники одновременно получали еду и устраняли конкурентов. Другие репликаторы могли научиться защищать себя либо химически, либо путем постройки вокруг себя стены из белков. Возможно, что так и появились первые живые клетки. Теперь репликаторы не просто существовали; они начали строить себе жилища, средства продления жизни. Выживали те репликаторы, которые строили себе механизмы для выживания и в них жили. Первые приспособления для выживания, скорее всего, состояли всего лишь из защитной пленки. Но на свет появлялись все новые варианты репликаторов, лучше приспособленных и обладающих более совершенными приспособлениями для выживания, и борьба за жизнь становилась все ожесточеннее. Механизмы для выживания становились все больше и сложнее, и этот процесс был кумулятивным и прогрессирующим. Был ли предел постепенному улучшению приемов и приспособлений, которые репликаторы использовали, чтобы обеспечить свое выживание? Времени для улучшения было предостаточно. Какие удивительные механизмы самосохранения могли появиться по прошествии тысячелетий? Какая судьба ожидала первые молекулы-репликаторы спустя четыре миллиарда лет? Они не вымерли, поскольку были первыми мастерами искусства выживания. Но не ищите их в морях; они уже давным-давно отказались от свободного плавания по волнам. Теперь они кишмя кишат в огромных колониях, достигшие безопасности внутри гигантских неуклюжих роботов, защищенные от внешнего мира, сообщающиеся с ним извилистыми сложными путями, воздействующие на него с помощью дистанционного управления. Они находятся в вас и во мне; они создали наше тело и наш разум, и их сохранение — высшая цель нашего существования. Эти репликаторы прошли длинный путь. Теперь они известны под именем генов, и мы — их механизмы для выживания. * * * Когда-то в незапамятные времена естественный отбор представлял собой дифференцированное выживание репликаторов, плававших в первичном бульоне. Сейчас естественный отбор предпочитает репликаторов, преуспевших в создании механизмов для выживания, генов, отлично умеющих контролировать эмбриональное развитие. При этом репликаторы так же бессознательны и лишены целенаправленности, как всегда. Как и раньше, продолжают происходить же самые слепые и неотвратимые процессы автоматического отбора среди конкурентов, согласно критериям долгожительства, плодовитости и аккуратности воспроизводства. Гены не обладают даром предвидения. Они не строят планов на будущее. Они просто существуют, и некоторые из них делают это более удачно. В этом и есть весь смысл эволюции. Но качества, определяющие срок жизни гена и его плодовитость, сегодня гораздо сложнее, чем когда-то. Они также прошли долгий путь развития. В последнее время — около шестисот миллионов лет — репликаторы достигли заметных успехов в технологии механизмов для выживания, таких, как мускулы, сердце и глаз (который независимо эволюционировал несколько раз). Перед этим они радикально изменили основные черты своего стиля жизни в качестве репликаторов. Мы должны это понять, прежде чем сможем продолжать наши рассуждения. Первое, что необходимо знать о современном репликаторе, это то, что он очень общителен. Механизмы для выживания содержат не один, но много тысяч генов. Постройка тела — это кооперативное предприятие такой сложности, что почти невозможно сказать, где кончается вклад одного гена и начинается вклад другого. Один и тот же ген оказывает различное влияние на различные части тела. Одна и та же часть тела испытывает влияние различных генов, и все они взаимосвязаны между собой. Некоторые гены действуют как прорабы, управляя работой групп других генов. В терминах этой аналогии, каждая страница чертежей имеет ссылки на многие другие части здания; и каждая страница имеет смысл, только взятая вместе с перекрестными ссылками на многие другие страницы. Такая сложная взаимозависимость генов может заставить вас задаться вопросом, зачем мы вообще используем термин “ген”. Почему бы не пользоваться собирательным именем, таким, как “комплекс генов”? Ответ на это таков: для многих целей это, действительно, неплохая мысль. Но если мы взглянем на вещи с другой точки зрения, мы увидим, что иногда полезно представлять комплекс генов разделенным на отдельные репликаторы, или гены. Это происходит из-за наличия феномена пола. Сексуальное воспроизводство смешивает и перетасовывает гены. Это означает, что каждое индивидуальное тело — всего лишь временный сосуд для недолговечной комбинации генов. Комбинация генов, являющаяся данным индивидом, может быть недолговечной, но сами гены потенциально весьма долговечны. Их пути снова и снова пересекаются при смене поколений. Определенный ген можно рассматривать как некое целое, выживающее в процессе смены индивидуальных тел. * * * Естественный отбор в самой общей форме означает дифференцированное выживание особей. Некоторые особи живут, другие умирают; однако, чтобы эта смерть оказала какое-то влияние на мир, должно быть соблюдено одно дополнительное условие. Каждая особь должна быть представлена в виде множества копий, и хотя бы некоторые из особей должны быть потенциально способны к выживанию — в форме копий — в течение долгого периода эволюционного времени. Маленькие генетические единицы имеют эту особенность; индивиды, группы и классы — нет. Великое достижение Грегора Менделя состояло в том, что он показал, что на практике наследственные единицы можно рассматривать как неделимые и независимые частицы. Сегодня мы знаем, что ситуация не так проста. Даже цистрон иногда можно разделить, и никакие два гена на одной и той же хромосоме не являются полностью независимыми. Мой вклад состоит в том, что я определил ген как единицу, в большой степени приближающуюся к идеалу неделимой частицы. Ген не является неделимым, но делится он редко. Он либо определенно присутствует, либо определенно отсутствует в теле любого данного индивида. Ген переходит, не изменяясь, от деда к внуку; он проходит через промежуточное поколение, не соединяясь с другими генами. Если бы гены постоянно смешивались друг с другом, естественный отбор, так, как мы его сегодня понимаем, был бы невозможен. Кстати, это было доказано еще при жизни Дарвина и сильно его обеспокоило, поскольку в те дни предполагалось, что наследственность — процесс смешивающий. Открытие Менделя уже было опубликовано, и это могло бы спасти Дарвина; но, к несчастью, он никогда об этом не узнал. Кажется, работы Менделя впервые привлекли внимание только несколько лет спустя после смерти обоих ученых. Возможно, Мендель и сам не подозревал, насколько важным было его открытие, иначе он написал бы Дарвину. Еще один аспект корпускулярности гена состоит в том, что он никогда не стареет. Достигнув миллиона лет, он остается таким же, каким был в сто. Он перескакивает из одного тела в другое, путешествуя по поколениям, манипулирует телами для достижения собственных целей и оставляет смертные тела, одно за другим, до того, как они состарятся и умрут. Гены бессмертны; или, скорее, они определяются как генетические единицы, близко подошедшие к тому, чтобы заслужить этот титул. Мы, индивидуальные механизмы для выживания в этом мире, можем надеяться прожить еще несколько десятков лет. Но продолжительность жизни генов в нашем мире измеряется не десятками, но тысячами и миллионами лет. * * * Механизмы для выживания вначале были просто пассивными сосудами, содержавшими гены; они предоставляли немногим более чем стены для их защиты от химических атак соперников и случайного попадания молекул. В те дни они “питались” органическими молекулами, плававшими вокруг них в первичном бульоне. Этой легкой жизни пришел конец, когда органическая еда в бульоне, тысячелетия копившаяся там под воздействием солнечного света, оказалась исчерпана. Представители одной из основных ветвей механизмов для выживания, известные сегодня под именем растений, начали напрямую использовать солнечный свет, чтобы строить сложные молекулы из простых, ускорив таким образом процесс синтеза, происходивший ранее только в бульоне. Представители другой ветви, известные сегодня как животные, “открыли” возможность эксплуатировать химическую работу растений, поедая либо их, либо других животных. Обе эти ветви механизмов для выживания развивали все более изобретательные приспособления, чтобы увеличить эффективность своей формы жизни; одновременно с этим постоянно рождались и новые формы жизни. Возникали под-ветви и под-под-ветви, каждая из которых специализировалась на определенном типе жизни: в море, на суше, в воздухе, под землей, на деревьях, внутри других живых организмов. Это разветвление породило огромное разнообразие животных, которому мы удивляется сегодня. И растения, и животные развились в многоклеточные тела, в которых копии генов распределялись в каждую клетку. Нам неизвестно, когда, почему и сколько раз это происходило. Некоторые исследователи метафорически говорят о колонии, называя тело колонией клеток. Я предпочитаю говорить о колонии генов и о клетках как о подходящих рабочих единицах для химической промышленности генов. Может быть, тела и являются колониями генов, но в своем поведении они безусловно выказывают собственную индивидуальность. Любое животное движется как скоординированное целое, как единая особь. Субъективно я воспринимаю себя как целое, а не как колонию. Это вполне естественно. Естественный отбор предпочитает гены, кооперирующие с другими. В жестокой борьбе за жизнь, в неустанном стремлении пожрать другие механизмы для выживания и не быть съеденным самому, преимуществом являлась центральная координация, а не анархия внутри общего тела. В настоящее время сложная взаимная эволюция генов настолько продвинулась вперед, что коммунальная природа индивидуальных машин для выживания стала почти незаметной. В действительности, многие биологи ее не признают и со мной не согласятся. * * * Одна из самых удивительных особенностей поведения механизмов для выживания — это их кажущаяся целеустремленность. Я имею в виду не только то, что это поведение прекрасно рассчитано, чтобы помочь генам данного животного выжить, хотя и это имеет место. Я говорю об аналогии с человеческим целеустремленным поведением. Когда мы видим, как животное “ищет” пищу, сексуального партнера или потерянного детеныша, мы с трудом можем удержаться, чтобы не приписать ему субъективных чувств, возникающих в подобных ситуациях у нас самих. Эти чувства могут включать “желание” заполучить некий объект, “мысленное представление” этого объекта, некую “цель в поле зрения”. Каждый из нас знает путем собственного интроспективного анализа, что по крайней мере в одном из современных механизмов для выживания эта целеустремленность породила свойство, которое мы называем “сознанием”. Я не философ и не хочу рассуждать о том, что это значит; к счастью, для нашей цели это и не важно. Вполне возможно говорить о машинах, ведущих себя так, как будто они обладают сознанием, при этом оставляя открытым вопрос о том, обладают ли они сознанием на самом деле. В своей основе эти механизмы весьма просты, а принципы бессознательного целенаправленного поведения являются самым обычным делом в инженерной науке. Классический пример тому — регулятор в паровом двигателе Уатта. Основной принцип этого явления — отрицательная обратная связь. Имеются несколько типов такой связи. При этом в общих чертах происходит следующее: “целенаправленная машина”, механизм или предмет, ведущий себя так, словно он сознательно стремится к какой-либо цели, снабжен неким измерительным устройством, замеряющим разницу между настоящим положением дел и “желаемым” состоянием. Чем больше эта разница, тем напряженнее работает механизм. Таким образом, машина автоматически уменьшает разницу — отсюда и название отрицательная обратная связь — и может остановиться, когда “желаемое” состояние будет достигнуто. Регулятор Уатта состоит из пары шаров, которые вращает паровой двигатель. Шары находятся на концах снабженного шарниром рычага. Чем быстрее вращаются шары, тем сильнее центробежная сила, борясь против гравитации, стремится привести рычаг в горизонтальное состояние. Рычаг присоединен к паровому клапану, питающему двигатель, таким образом, что подача пара прекращается, когда рычаг приходит в горизонтальное положение. Таким образом, если двигатель работает слишком быстро, подача пара уменьшается и двигатель замедляется. Если он замедляется слишком сильно, подача пара автоматически увеличивается и двигатель снова ускоряется. Подобные целенаправленные машины часто сбиваются с ритма, и часть инженерного искусства состоит в том, чтобы встроить в них дополнительные приспособления, уменьшающие возможность сбоев. “Желаемое” состояние регулятора Уатта состоит в определенной скорости вращения. Очевидно, что регулятор не желает этого сознательно. “Цель” механизма определяется всего-навсего как состояние, в которое тот обычно возвращается. Современные целенаправленные машины используют такие же основные принципы, как отрицательная обратная связь, но достигают при этом гораздо более сложного “жизнеподобного” поведения. Управляемые ракеты выглядят так, словно активно ищут свою цель, а когда цель попадает в пределы досягаемости, то ракеты начинают ее “преследовать” учитывая все ее обманные маневры, броски и повороты, а иногда даже “предсказывая” или “предваряя” их. Мы не будем здесь вдаваться в детали насчет того как это делается. Для этого используется отрицательная обратная связь нескольких типов, прямая связь и некоторые другие принципы, хорошо известные инженерам и широко задействованные также в функционировании живых существ. Здесь не обязательно предполагать что-то похожее на сознание, хотя неспециалист, наблюдающий целенаправленное и разумное на вид поведение ракеты, с трудом может поверить, что она не находится под прямым дистанционным управлением пилота. Обычным заблуждением является то, что поскольку такой механизм, как управляемые ракеты, изначально изобретен и построен разумным человеком, он должен находиться под непосредственным контролем разумного человека. Другим вариантом этого заблуждения является следующее утверждение: “Компьютеры не играют в шахматы по-настоящему, поскольку делают только то, что им приказывает человек-оператор”. Нам необходимо разобраться, в чем здесь ошибка, поскольку это поможет нам понять, в каком смысле можно сказать, что гены “контролируют” поведение. Компьютерные шахматы — хороший пример, и я остановлюсь на них немного подробнее. Компьютеры пока не играют в шахматы как гроссмейстеры, но уже достигли уровня крепкого любителя. Строго говоря, правильнее будет сказать, что уровня крепкого любителя достигли программы, поскольку программам все равно, в какой компьютер их заложат. Какова при этом роль человеческого программиста? Разумеется, он не управляет компьютером постоянно, как дергающий за ниточки кукловод. Это было бы ловким трюком, обманом. Программист пишет программу, закладывает ее в компьютер, и дальше тот предоставлен самому себе: единственным человеком, взаимодействующим с компьютером, остается его противник, печатающий на клавиатуре свои ходы. Может быть, программист предвидит все возможные шахматные позиции и снабжает компьютер списком хороших ходов на любой случай? Наверняка нет, поскольку количество возможных шахматных позиций настолько велико, что прежде, чем программист закончит свой список, наступит конец света. По этой же причине невозможно запрограммировать компьютер на то, чтобы он анализировал “в уме” все возможные ходы с их возможными продолжениями, пока не найдет выигрышной стратегии. Возможных ходов в шахматах больше, чем атомов в галактике. Таким образом, предыдущие возражения не многого стоят. Проблема шахматного программирования чрезвычайно сложна, и не следует удивляться, что программам еще далеко до высочайшего шахматного мастерства. В действительности, роль программиста больше походит на роль отца, учащего своего сына игре в шахматы. Он объясняет компьютеру ходы и правила, причем делает это не для каждой определенной позиции, а в виде наиболее экономично изложенных правил. Правда, он не говорит по-русски: “Слоны ходят по диагонали”, но заменяет это высказывание его математическим эквивалентом, что-то вроде: “Новые координаты слона получаются из старых путем прибавления той же константы, не обязательно с тем же знаком, одновременно к координатам x и y”, только короче. После этого он может запрограммировать какой-нибудь совет, написанный на таком же математическом или логическом языке, который в переводе на обычный язык означал бы что-нибудь вроде: “не оставляй короля без защиты”, или какой-нибудь ловкий прием, вроде “вилки” конем. Детали этого очень интересны, но рассмотрение их увело бы нас слишком далеко в сторону. Важно здесь следующее: во время игры компьютер предоставлен самому себе и не может ожидать помощи от своего “хозяина”. Все, что тот может сделать, это заранее запрограммировать компьютер наилучшим образом, гармонично совместив списки конкретных знаний с информацией по общей стратегии и тактике. Так же гены контролируют поведение механизмов для выживания: не прямо, с помощью зажатых в пальцах ниточек кукловода, а косвенно, как программист влияет на поведение программы. Все, что они могут сделать, это запрограммировать поведение заранее, после чего механизм для выживания должен бороться самостоятельно, пока гены пассивно сидят у него внутри. Почему они так пассивны? Почему бы им не взять бразды управления в свои руки и не установить постоянный контроль? Ответ состоит в том, что они этого сделать не могут по причине отставания по времени. Научно-фантастический рассказ “На Андромеду” Фреда Хойля и Джона Эллиота, как и вся хорошая научная фантастика, базируется на интересных научных фактах. Странно, что книга, как кажется, вообще не упоминает открыто об основном из этих фактов. Надеюсь, что авторы не будут против, если я сделаю это здесь. За двести световых лет от нас, в созвездии Андромеды (Не путать с галактикой Андромеды, находящейся на расстоянии 2 млн. световых лет. — Прим. изд.), существует некая цивилизация. Андромедяне хотят распространить свою культуру в других мирах. Как лучше всего это сделать? О межзвездном путешествии вопрос не стоит. Скорость света кладет теоретический предел возможностям таких путешествий, а соображения механики делают этот предел намного ниже на практике. Кроме того, возможно, что есть не так уж много миров, которые стоило бы посетить, и нет возможности узнать, в каком направлении они лежат. Радио — лучший способ связи со вселенной, поскольку, если у вас хватает энергии, чтобы посылать сигнал одновременно во всех направлениях, а не в каком-то одном, вы сможете достичь многих миров (их число растет пропорционально квадрату расстояния, на которое путешествует сигнал). Радиоволны перемещаются со скоростью света, что означает, что от Андромеды до Земли сигнал доберется за двести лет. Проблема с таким расстоянием в том, что оно делает беседу невозможной. Даже если не принимать во внимание тот факт, что каждое следующее послание с Земли будет передано людьми, отстоящими от авторов предыдущего послания поколений на двенадцать, попытка поддерживать подобный “межпланетный” разговор будет пустой тратой времени. Эта проблема вскоре превратится для нас в практическую — от Земли до Марса радиоволны летят 4 минуты. Несомненно, что космонавтам придется отказаться от привычки беседовать короткими чередующимися репликами. Вместо этого им придется использовать длинные монологи, более похожие на письма, чем на реплики в разговоре. Вот еще один пример: Роджер Пэйн указал на то, что акустика моря имеет некоторые особые характеристики, означающие, что очень громкая песня китов теоретически может быть слышна по всему земному шару, если киты при этом находятся на определенной глубине. Неизвестно, сообщаются ли они между собой на такие большие расстояния в действительности, но если да, то они сталкиваются с той же проблемой, как астронавт на Марсе. Скорость звука в воде такова, что потребуется два часа, чтобы песня пересекла Атлантический океан и ответ добрался бы обратно. Мне кажется, что именно этим можно объяснить тот факт, что киты произносят непрерывные “монологи”, никогда при этом не повторяясь, в течение восьми минут. После этого они начинают сначала и повторяют всю песню, и так много раз подряд; каждый цикл занимает около восьми минут. Андромедяне из фантастического рассказа сделали то же самое. Поскольку ждать ответа не было смысла, они уместили все, что хотели сказать, в одно огромное непрерывное послание и стали передавать его в космическое пространство снова и снова. Время полного цикла составляло несколько месяцев. Однако их послание сильно отличалось от сообщения китов. Оно состояло из закодированных инструкций по построению и программированию гигантского компьютера. Разумеется, инструкции не были составлены на каком-либо из человеческих языков, но опытный криптограф может расшифровать любой код, в особенности если его и составляли с целью легкой расшифровки. Сообщение было принято телескопом Жодрелл Банк, расшифровано, компьютер был построен и программа начала работать. Результаты оказались почти фатальными для человечества, поскольку намерения андромедян были не совсем альтруистичны. Компьютеру почти удалось захватить власть над миром, когда герой наконец с ним расправился, зарубив его топором. С нашей точки зрения интересен вопрос, в каком смысле можно сказать, что андромедяне управляют событиями на Земле. У них нет прямого контроля над каждым действием компьютера; более того, у них нет способа узнать, был ли этот компьютер вообще построен, поскольку информация об этом достигла бы их только через двести лет. Компьютер сам принимал все решения и предпринимал действия. Он не мог попросить у своих создателей даже общих указаний. Все инструкции должны были быть записаны в нем заранее из-за непреодолимого временного барьера в двести лет. В принципе его программа могла быть очень похожа на программу компьютера-шахматиста, с той разницей, что она была бы более гибкой и обладала бы большей способностью к переработке локальной информации, потому что она была создана, чтобы работать не только на Земле, но в любом мире, где есть развитая цивилизация, в любом из множества миров, особенностей которых андромедяне заранее знать не могли. Подобно тому, как андромедяне должны были иметь на Земле компьютер, чтобы тот принимал за них повседневные решения, наши гены должны были построить мозг. Но гены в этой аналогии — не только андромедяне, пославшие закодированные инструкции. Они сами по себе являются этими инструкциями. Причина, по которой они не могут прямо управлять нами, как кукловод — марионеткой, одна и та же — запаздывание во времени. Гены работают, контролируя синтез белков. Это могучее орудие для управления миром, но действует оно достаточно медленно. Чтобы построить эмбрион, требуются месяцы терпеливого дергания за белковые “струны”. Поведение, с другой стороны, — вещь быстрая и действует на временных отрезках протяженностью не в месяцы, но в секунды и в доли секунд. В мире что-то происходит, сова проносится над головой, шорох в высокой траве выдает затаившуюся там жертву, и в тысячные доли секунды нервная система приходит в действие, мускулы сжимаются, и чья-нибудь жизнь оказывается спасена — или потеряна. Гены не обладают подобной быстротой реакции. Как андромедяне, гены могут только постараться предусмотреть все заранее, построив себе быстрый компьютер и вложив в программу правила и “советы” на все случаи жизни, которые они способны “предусмотреть”. Но, как и в игре в шахматы, в жизни слишком много различных гипотетических возможностей, и предусмотреть их все невозможно. Как программист, работающий над шахматной программой, гены должны “проинструктировать” собственные механизмы для выживания не по поводу специфических деталей, но дать им общие советы о стратегии и тактике выживания. Как указал Дж. З. Янг, гены должны проделать работу, аналогичную предсказанию. В момент построения эмбриона машины для выживания опасности и проблемы, с которыми ей придется сталкиваться, лежат в будущем. Кто знает, какой хищник будет выслеживать ее, притаившись в кустах, или какая быстроногая жертва перебежит, петляя, ее дорогу? Этого не способен предсказать ни человеческий прорицатель, ни ген. Однако возможны некоторые общие предположения. Гены полярного медведя могут быть уверены в том, что будущее их еще не родившейся машины для выживания будет холодным. Они не думают об этом, как о предсказании; они вообще ни о чем не думают: они просто создают густой мех, поскольку так они делали во всех предыдущих телах. Именно благодаря этому они все еще существуют в генетическом фонде. Они также предсказывают, что земля будет покрыта снегом, и это предсказание реализуется в виде белой шкуры, предоставляющей медведю хороший камуфляж. Если бы климат Арктики изменился так быстро, что медвежонок родился бы в тропическом лесу, предсказания генов оказались бы ошибочными, и им пришлось бы за это расплачиваться. Медвежонок погиб, и они вместе с ним. * * * Одним из интересных способов предсказания будущего является имитация. Если генерал хочет узнать, будет ли определенный план лучше, чем его альтернативные, он должен попытаться предсказать будущее. В ситуации имеется несколько неизвестных величин: погода, моральное состояние его собственного войска и возможные контрмеры противника. Чтобы узнать, хороший ли это план, можно попытаться привести его в жизнь и посмотреть, что получится; но этот тест нежелательно проводить для всех возможных планов, хотя бы потому, что количество молодых людей, готовых “умереть за отчизну” не бесконечно, а количество возможных планов очень велико. Предпочтительнее опробовать планы в тренировочных схватках, чем в смертельных боях. Тренировочные схватки могут проводиться по полной программе, со сражениями “Севера” против “Юга” и использованием холостых патронов, но и это слишком дорого и громоздко. Дешевле играть в военные игры, передвигая оловянных солдатиков и игрушечные танки по большой карте. В последнее время компьютеры взяли на себя основную работу по имитации не только в военной стратегии, но и во всех областях, в которых необходимы предсказания будущего, таких, как экономика, экология, социология и многие другие. Эта технология работает следующим образом. На компьютере воспроизводится модель некого аспекта мира. Это не означает, что, отвинтив крышку, вы найдете внутри крохотную куколку, повторяющую форму изображаемого предмета. В банке данных играющего в шахматы компьютера нет мысленной картинки шахматной доски с фигурами. Доска и позиция на ней представлены там в виде ряда электронно закодированных чисел. Для нас карта — это миниатюрная модель мира, сделанная в определенном масштабе и спрессованная в два измерения. В компьютере карта, скорее всего, будет представлена в виде списка городов и других мест, каждое с двумя координатами, широтой и долготой. Для нас неважно, в какой форме компьютер представляет себе модель мира — главное, чтобы он мог с ней работать, ею манипулировать, проводить на ней эксперименты и предоставлять ответы человеческим операторам в доступной для них форме. Благодаря технике имитации можно выигрывать и проигрывать смоделированные войны, наблюдать, как летят или падают самолеты, как новая экономическая политика приводит к процветанию или кризису. В каждом случае весь процесс занимает в компьютере крохотную долю того времени, которое он занял бы в реальной жизни. Разумеется, некоторые модели мира хороши, а другие никуда не годятся, и даже самые лучшие модели только приблизительны. Никакая имитация не в состоянии абсолютно точно предсказать, что произойдет в действительности, но хорошая имитация гораздо предпочтительнее, чем слепой метод проб и ошибок. Имитацию можно назвать методом косвенных проб и ошибок (к несчастью, этот термин был много лет назад присвоен психологами, работавшими с крысами). Если имитация — такая хорошая мысль, то мы могли бы ожидать, что механизмы для выживания набрели на нее первыми. В конце концов, они изобрели многие из приемов человеческой инженерной науки задолго до того, как мы появились на сцене: фокусирующие линзы и параболический рефлектор, частотный анализ звуковых волн, сервоуправление, эхолокатор, буферное запоминающее устройство и множество других вещей с длинными названиями, детальное описание которых для нас неважно. Так как же насчет имитации? Когда вам приходится принимать трудное решение в ситуации, включающей неизвестные будущие величины, вы прибегаете к определенного типа имитации. Вы представляете себе, что произойдет, если вы примете ту или иную возможную альтернативу. Вы создаете в голове модель мира — той его части, которая, как вам кажется, важна в данном случае. Вы ясно видите эту модель своим внутренним зрением и можете манипулировать ее составляющими. Маловероятно, чтобы где-то в вашей голове находилась уменьшенная копия событий, которые вы воображаете. Так же, как и в случае с компьютером, детали того, как ваш мозг представляет модель мира, не столь важны, как сам факт, что он может использовать ее для предсказания будущих событий. Машины для выживания, умеющие предсказывать будущее, — это скачок вперед по сравнению с механизмами для выживания, использующим прямой метод проб и ошибок. Недостаток проб в том, что на них требуется много времени. Недостаток ошибок в том, что они зачастую смертельны. Имитация и быстрее, и безопаснее. Вершиной эволюции умения предсказывать стало, по-видимому, появление субъективного сознания. То, почему это произошло, кажется мне глубочайшей загадкой, стоящей перед современной биологией. У нас нет причин предполагать, что электронные компьютеры, способные к имитации, обладают сознанием, хотя мы должны признать, что в будущем это может произойти. Может быть, самосознание возникает в тот момент, когда симулируемая мозгом картина мира становится такой полной, что включает сам этот мозг. Очевидно, что торс и конечности механизма для выживания должны составлять важную часть его модели мира, и по той же причине сама имитация может быть частью мира, модель которого надо построить. Это можно также назвать “самосозерцанием”, но мне не кажется, что это название предоставляет удовлетворительное объяснение развития самосознания, отчасти потому, что оно включает бесконечный регресс — если у нас есть модель модели, почему бы не быть и модели модели модели?… Каковы бы ни были философские проблемы, возникающие в связи с самосознанием, для целей данной статьи мы можем считать его кульминацией эволюционной тенденции, ведущей к освобождению механизмов для выживания как субъектов, принимающих решения, от их абсолютных хозяев, генов. Мозг не только осуществляет повседневный контроль за делами механизма для выживания; он также научился предсказывать будущее и действовать в соответствии со своими предсказаниями. Он достаточно силен, чтобы восстать против диктата генов, например, отказавшись иметь столько детей, сколько физически возможно. Но, как мы увидим, в этом смысле человек — совершенно особое животное. Какое отношение все это имеет к альтруизму и эгоизму? Я пытаюсь развить мысль, что поведение животных, альтруистическое или эгоистическое, находится под контролем генов только в переносном, но тем не менее, вполне реальном смысле. Диктуя то, как строятся механизмы для выживания и их нервная система, гены осуществляют решающий контроль над поведением. Однако повседневные, сиюминутные решения — дело нервной системы. Гены создают общую политику, мозг воплощает ее в жизнь. По мере того как мозг развивается, он начинает перехватывать инициативу в создании общей политики, используя такие приемы как обучение и имитация. Логическим завершением этой тенденции была бы единственная общая инструкция, даваемая генами: делай то, что ты считаешь наилучшим, чтобы сохранить нас в живых. Эгоистические мемы Мы предполагаем, что законы физики одинаковы во всей доступной нам вселенной. Существуют ли какие-либо биологические принципы, имеющие такую же универсальную силу? Когда космонавты отправятся на далекие планеты, они могут ожидать найти там существа, слишком странные и непохожие на землян, чтобы мы могли их представить. Но есть ли нечто, что было бы верным для всех форм жизни, независимо от их химической базы? Если будет найдена форма жизни, основанная на кремнии вместо углерода или на аммиаке вместо воды, если обнаружатся существа, кипящие и гибнущие при ?100° по Цельсию, если существует форма жизни не на химической, а на электронной основе, то будет ли между ними нечто общее, принцип, общий для всех живых существ? Разумеется, я не знаю, но если бы мне пришлось держать пари, я поставил бы на то, что некий основной принцип существует. Это закон, гласящий, что любая жизнь эволюционирует путем дифференцированного выживания реплицирующихся особей. Реплицирующаяся особь, преобладающая на нашей планете — ген, молекула ДНК. Могут быть и другие особи. Если они имеются, то при наличии некоторых дополнительных условий они почти неизбежно станут основой эволюции. Нужно ли нам путешествовать в другие миры в поисках иных типов репликаторов и, вследствие этого, иных типов эволюции? Я думаю, что новый тип репликатора появился недавно на нашей планете. Он находится у нас под носом. Он еще крайне молод, еще неуклюже барахтается в своем первичном бульоне, но его эволюция продвигается вперед такими темпами, что оставляет старый ген далеко позади. Новый бульон — это бульон человеческой культуры. Новому репликатору нужно имя, такое имя, которое бы несло идею культурной передачи, или единицы имитации. “Мимем” происходит от подходящего греческого корня, но мне нужно слово из одного слога, которое звучало бы немного похоже на “ген”. Надеюсь, что мои друзья-классицисты простят меня, если я сокращу название до “мем”. Это слово соотносится с английским memory (память) и с французским meme (такой же, тот же самый). Примерами мемов являются мелодии, идеи, крылатые фразы, фасоны одежды, приемы изготовления горшков или построения арок. Подобно тому, как гены распространяются в генофонде, переходя от тела к телу при помощи яйцеклеток и сперматозоидов, мемы распространяются в мемофонде, переходя от мозга к мозгу путем процесса, который в широком смысле можно назвать имитацией. Если ученый слышит или читает о новой идее, он передает ее своим коллегам и студентам. Он упоминает о ней в своих статьях и лекциях. Если идея прививается, то мы можем сказать, что она распространилась, переходя от мозга к мозгу. Мой коллега Н. К. Хамфри изящно резюмировал содержание ранней редакции этой главы: …мемы должны рассматриваться как живые структуры, не только в метафорическом, но и в техническом смысле слова. Посеяв плодотворную мысль у меня в мозгу, вы поселяете там паразита, превращая мой мозг в механизм для распространения этого мема таким же образом, как вирус может паразитировать в генетическом механизме клетки-хозяина. И это не просто фигура речи — мем, соответствующий, например, вере в “жизнь после смерти” физически реализован много миллионов раз в структуре нервной системы отдельных людей во всех уголках земного шара”. * * * Я предполагаю, что адаптированные друг к другу комплексы мемов эволюционируют тем же способом, как и адаптированные друг к другу комплексы генов. Естественный отбор оказывает предпочтение тем мемам, которые используют культурную среду для получения преимущества. При этом культурная среда состоит из других мемов, тоже прошедших отбор. Мемофонд, таким образом, приобретает черты эволюционно стабильного набора, и новым мемам будет трудно туда проникнуть. До сих пор я говорил о мемах негативно, но в них есть и свои хорошие стороны. Когда мы умрем, мы сможем оставить после себя две вещи: гены и мемы. Мы были созданы как машины для сохранения и распространения генов. Однако этот наш аспект окажется забытым через три поколения. Ваш ребенок и даже ваш внук может быть похож на вас лицом, иметь ваш цвет волос или унаследовать ваши способности к музыке. Но с каждым поколением вклад ваших генов уменьшается вдвое. Нужно совсем немного времени, чтобы он стал практически незаметным. Наши гены могут обладать бессмертием, но определенный набор генов, представляющий каждого конкретного человека, недолговечен. Элизабет Вторая — прямой потомок Вильгельма Завоевателя. Однако вполне возможно, что в ней нет ни одного из генов этого короля. Мы не должны искать бессмертия в размножении. Однако, если вы внесли свой вклад в мировую культуру, если вы — автор хорошей идеи, мелодии, стихотворения, свечи зажигания, ваше детище может продолжать жить через много лет после того, как ваши гены растворятся в общем генофонде. Может быть, в мире еще сохранилась пара генов Сократа, но кого это интересует? Мемо-комплексы Сократа, Леонардо, Коперника и Маркони живут и процветают. Размышления Доукинз мастерски излагает редукционистскую гипотезу о том, что жизнь и разум возникли из кипящего молекулярного хаоса, когда крохотные, случайно возникшие единицы снова и снова проходили через безжалостный фильтр жестокой борьбы за ресурсы для самовоспроизводства. Редукционизм считает, что весь мир можно свести к физическим законам, и не оставляет места для так называемых “возникающих” свойств, или, используя устаревший, но выразительный философский термин, “энтелехий” — структур высшего уровня, предположительно необъяснимых с точки зрения управляющих ими законов. Представьте себе следующую ситуацию: вы посылаете сломанную пишущую машинку (или стиральную машину, или факс) на фабрику для починки. Через месяц они присылают ее обратно, правильно собранную (такую же, как она была в момент отправки), вместе с письмом, в котором извиняются — хотя все части сочетаются друг с другом правильно, целое по какой-то причине отказывается работать. Вы сочтете это возмутительным. Как это возможно, чтобы каждая часть была в порядке, а механизм при этом не работал? Где-то должна таиться поломка! Так говорит нам наш здравый смысл, приложимый к царству обыденной жизни. Продолжает ли этот принцип действовать по мере того, как вы переходите от целого к составляющим его частям, затем — к составляющим этих частей и так далее, уровень за уровнем? Да, подсказывает здравый смысл — и все же многие люди продолжают считать, что свойства воды не могут быть выведены из свойств кислорода и водорода, и что человеческое существо больше, чем сумма его частей. Люди представляют себе атомы в виде простых биллиардных шаров, допуская наличие у них химической валентности, но не вдаваясь в более мелкие детали. Оказывается, что ничто не может быть дальше от истинного положения дел. Когда вы достигаете этого микроскопического уровня, математика “материи” становится сложнее, чем когда бы то ни было. Об этом говорит отрывок из работы Ричарда Маттака, посвященной взаимодействующим частицам:
Квантовая механика атома, например, кислорода, с его восемью электронами, находится далеко за пределами наших возможностей найти полное аналитическое решение. Свойства атомов кислорода и водорода, не говоря уже о молекуле воды, неописуемо сложны и являются причиной многих неуловимых свойств воды. Некоторые из этих свойств поддаются изучению с помощью компьютерной симуляции множества взаимодействующих молекул; при этом используются упрощенные модели атомов. Естественно, что чем лучше модель атома, тем точнее симуляция. В действительности, компьютерные модели стали одним из основных способов открытия новых свойств веществ, состоящих из множества идентичных компонентов, основываясь только на знании о свойствах одного индивидуального компонента. Компьютерная симуляция помогла нам по-новому взглянуть на то, как галактики образуют свои спирали, при помощи модели одной-единственной звезды, рассмотренной как подвижная гравитационная точка. Компьютерные симуляции, основанные на моделировании единственной молекулы как простой структуры в состоянии электромагнитного взаимодействия, показали, как твердые вещества, газы и жидкости вибрируют, текут и меняют состояние. Несомненно то, что люди обычно недооценивают сложности и запутанности, которые могут возникнуть при взаимодействии огромного количества единиц, подчиняющихся формальным правилам — взаимодействии чрезвычайно быстром по сравнению с нашей временной шкалой. В заключение своей книги Доукинз представляет свой собственный мем о мемах — программных репликаторах, обитающих в умах. Он предваряет свою экспозицию анализом различных поддерживающих жизнь сред. При этом он забывает упомянуть еще об одной среде — поверхности нейронной звезды, на которой ядерные частицы могут собираться вместе и снова расходиться в тысячи раз быстрее, чем атомы. Теоретически, “химия” ядерных частиц допускает существование крохотных самовоспроизводящихся структур, чьи быстротечные жизни будут мелькать со скоростью молнии, такие же сложные, как их земные соответствия. Существует ли такая жизнь на самом деле и возможно ли о ней узнать, неясно, но удивительна сама идея цивилизации подобных супер-лилипутов, которая возникает и погибает в течение нескольких земных дней. Все отрывки из книг Станислава Лема, и, в особенности, глава 18, “Седьмое путешествие”, обладают этим качеством и порождают неожиданные идеи. Мы упоминаем об этой странной идее, чтобы напомнить читателю о необходимости непредвзято подходить к возможностям различных сред, могущих поддерживать сложную жизне— и мыследеятельность. В следующем диалоге эта идея рассматривается не в таком фантастическом контексте — сознание там возникает из взаимодействия разных уровней муравьиной колонии. Д.Р.Х.  М. К. Эшер. “Лист Мёбиуса II” (гравюра на дереве, 1963). 11 ДАГЛАС Р. ХОФШТАДТЕР Прелюдия… и Муравьиная фуга Прелюдия и …Ахилл и Черепаха пришли в гости к Крабу, чтобы познакомиться с его другом Муравьедом. После того, как новые знакомые представлены друг другу, вся четверка садится за чай. ЧЕРЕПАХА: Мы вам кое-что принесли, мистер Краб. КРАБ: Очень любезно с вашей стороны, но зачем же было утруждаться? ЧЕРЕПАХА: О, это так, мелочь — в знак нашего уважения. Ахилл, отдайте, пожалуйста, подарок м-ру К. АХИЛЛ: С удовольствием. С наилучшими пожеланиями, м-р К. Надеюсь, что вам понравится. (Ахилл протягивает Крабу элегантно завернутый пакет, квадратный и плоский. Краб начинает его разворачивать.) МУРАВЬЕД: Интересно, что это такое. КРАБ: Сейчас узнаем… (Кончает разворачивать и вытаскивает подарок.) Две пластинки! Прекрасно! Но погодите-ка… здесь нет этикетки. Неужели это снова ваши “особые” записи, г-жа Ч? ЧЕРЕПАХА: Если вы имеете в виду разбивальную музыку, на этот раз нет. Но эти записи действительно уникальны, так как они сделаны по персональному заказу. На самом деле, их еще никто никогда не слышал — кроме, конечно, Баха, когда тот их играл. КРАБ: Когда Бах их играл? Что вы имеете в виду? АХИЛЛ: Вы будете вне себя от счастья, м-р Краб, когда г-жа Ч объяснит вам, что это за пластинки. ЧЕРЕПАХА: Почему бы вам самому этого не рассказать, Ахилл? Не стесняйтесь, говорите! АХИЛЛ: Можно? Вот здорово! Но я лучше загляну сначала в свои записи. (Вытаскивает бумажку и откашливается.) Кхе-кхе. Желаете послушать рассказ о замечательных новых результатах в математике — результатах, которым ваши пластинки обязаны своим существованием? КРАБ: Мои пластинки восходят к каким-то математическим выкладкам? Как интересно! Что ж, теперь, когда вы задели мое любопытство, я просто обязан об этом узнать. АХИЛЛ: Отлично. (Делает паузу, чтобы отхлебнуть чай, затем продолжает.) Кто-нибудь из вас слышал о печально известной “Последней Теореме” Ферма? МУРАВЬЕД: Не уверен… Звучит знакомо, но не могу припомнить. АХИЛЛ: Идея очень проста. Пьер де Ферма, адвокат по профессии и математик по призванию, однажды, читая классический текст Диофанта “Арифметика”, наткнулся на следующее уравнение:
Он тут же понял, что это уравнение имеет бесконечно много решений для a, b, и c, и написал на полях свою знаменитую поправку:
С того дня и в течение почти трехсот лет математики безуспешно пытаются сделать одно из двух: либо доказать утверждение Ферма и таким образом очистить его репутацию, в последнее время слегка подпорченную скептиками, не верящими, что он действительно нашел доказательство — либо опровергнуть его утверждение, найдя контрпример: множество четырех целых чисел a, b, c и n, где n > 2, которое удовлетворяло бы этому уравнению. До недавнего времени все попытки в любом из этих двух направлений проваливались. Точнее, теорема доказана лишь для определенных значений n — в частности, для всех n до 125 000. АХИЛЛ: Не лучше ли тогда называть это Гипотезой вместо Теоремы, поскольку настоящее доказательство еще не найдено? АХИЛЛ: Строго говоря, вы правы, но по традиции это зовется именно так. КРАБ: Удалось ли кому-нибудь в конце концов разрешить этот знаменитый вопрос? АХИЛЛ: Представьте себе, да: это сделала г-жа Черепаха, как всегда, в момент гениального озарения. Она не только нашла ДОКАЗАТЕЛЬСТВО Последней Теоремы Ферма (оправдав, таким образом, ее название и очистив репутацию Ферма), но и КОНТРПРИМЕР, показав, что интуиция скептиков их не подвела! КРАБ: Вот это да! Поистине революционное открытие. МУРАВЬЕД: Прошу вас, не тяните: что это за магические числа, удовлетворяющие уравнению Ферма? Мне особенно любопытно узнать значение n. АХИЛЛ: Ах, какой ужас! Какой стыд! Верите ли, я оставил все выкладки дома на громаднейшем листе бумаги. К несчастью, он был слишком велик, чтобы принести его с собой. Хотел бы я, чтобы он был сейчас здесь и чтобы можно было вам все показать. Но кое-что я все же помню: величина n — единственное положительное число, которое нигде не встречается в непрерывной дроби числа ?. КРАБ: Какая жалость, что у вас нет с собой ваших записей. Так или иначе, у нас нет оснований сомневаться, что все, что вы нам сказали — чистая правда. МУРАВЬЕД: Да и кому, в конце концов, нужно видеть n в десятичной записи? Ахилл же объяснил нам, как найти это число. Что ж, г-жа Черепаха, примите мои сердечные поздравления по поводу вашего эпохального открытия! ЧЕРЕПАХА: Благодарю вас. Однако практическая польза, которую немедленно принес мой результат, кажется мне еще важнее теоретического открытия. КРАБ: Смерть как хочется услышать об этом — ведь я всегда считал, что теория чисел — Царица Чистой Математики, единственная ветвь математики, не имеющая НИКАКОГО практического приложения. ЧЕРЕПАХА: Вы не единственный, кто так думает; однако на деле почти невозможно предсказать, когда и каким образом какая-либо ветвь чистой математики — или даже какая-либо индивидуальная Теорема — повлияет на другие науки. Это происходит совершенно неожиданно, и данный случай — хороший тому пример. АХИЛЛ: Обоюдоострый результат г-жи Черепахи прорубил дверь в область акусто-поиска. МУРАВЬЕД: Что такое акусто-поиск?  Пьер де Ферма АХИЛЛ: Название говорит само за себя: это поиск и извлечение акустической информации из сложных источников. Например, типичная задача акусто-поиска — восстановить звук, произведенный упавшим в воду камнем, по форме расходящихся по воде кругов. КРАБ: Но это невозможно! АХИЛЛ: Почему же? Это весьма похоже на то, что делает наш мозг, когда он восстанавливает звук, произведенный голосовыми связками другого человека, по колебаниям, переданным барабанной перепонкой далее по лабиринту ушной раковины. КРАБ: Ясно. Но я все еще не вижу связи этого ни с теорией чисел, ни с моими новыми пластинками. АХИЛЛ: Видите ли, в математике акусто-поиска часто возникают вопросы, связанные с числом решений неких Диофантовых уравнений. А г-жа Ч годами занималась тем, что пыталась восстановить звуки игры Баха на клавесине (что происходило более двухсот лет тому назад), основываясь на расчетах движения всех молекул в атмосфере в настоящее время. МУРАВЬЕД: Но это же совершенно невозможно! Эти звуки утрачены навсегда, утеряны невозвратимо! АХИЛЛ: Так думают непосвященные — но г-жа Ч посвятила много лет этой проблеме и пришла к выводу, что все зависит от количества решений уравнения
в положительных числах, при n > 2. ЧЕРЕПАХА: Я могла бы объяснить, при чем здесь это уравнение, но не хочу наскучить присутствующим. АХИЛЛ: Оказалось, что теория акусто-поиска предсказывает, что звуки баховского клавесина могут быть восстановлены по движению всех молекул атмосферы, при одном из двух условий: ЛИБО у этого уравнения есть хотя бы одно решение — КРАБ: Удивительно! МУРАВЬЕД: Фантастика, да и только! ЧЕРЕПАХА: Кто бы мог подумать! АХИЛЛ: Я хотел сказать, “ЛИБО такое решение существует, ЛИБО существует доказательство, что уравнение НЕ имеет решений!” Итак, г-жа Ч начала кропотливую работу с обоих концов проблемы одновременно. Оказалось, что нахождение контрпримера было ключом к нахождению доказательства, так что одно прямо вело к другому. КРАБ: Как же это возможно? ЧЕРЕПАХА: Видите ли, мне удалось показать, что структуру любого доказательства Последней Теоремы Ферма — если таковое существует — возможно описать с помощью элегантной формулы, которая зависела бы от величин решения некоего уравнения. Когда я нашла это второе уравнение, к моему удивлению оно оказалось не чем иным как уравнением Ферма. Забавное случайное соотношение между формой и содержанием. Так что, когда я нашла контрпример, мне осталось только использовать эти числа как план для построения доказательства того, что это уравнение не имеет решения. Замечательно просто, если подумать. Не знаю, почему никто не нашел этого результата раньше. АХИЛЛ: В результате этого неожиданного блестящего математического успеха, г-же Ч удалось провести акусто-поиск, о котором она столько лет мечтала. Подарок, полученный м-ром Крабом, представляет собой осязаемую реализацию этой абстрактной работы. КРАБ: Не говорите мне, пожалуйста, что это запись Баха, играющего на клавесине собственные сочинения! АХИЛЛ: Сожалею, но приходится, поскольку это именно она и есть! Это набор из двух записей Себастиана Баха, исполняющего весь Хорошо Темперированный Клавир. На каждой пластинке записана одна из двух его частей; это значит, что каждая запись состоит из 24 прелюдий и фуг, по одной в каждой мажорной и минорной тональности. КРАБ: В таком случае мы должны немедленно прослушать эти бесценные пластинки! Как я смогу вас отблагодарить? ЧЕРЕПАХА: Вы уже нас отблагодарили сполна этим превосходным чаем, который вы для нас приготовили. (Краб вынимает одну из пластинок из конверта и ставит ее на свой патефон. Комната наполняется звуками потрясающей, мастерской игры на клавесине, при этом качество записи — самое высокое, какое можно вообразить. Можно даже разобрать — или это только воображение слушателя? — тихий голос Баха, подпевающего собственной игре…) КРАБ: Хотите следить по нотам? У меня есть уникальное издание Хорошо Темперированного Клавира, проиллюстрированное одним из моим учителей, который также был необыкновенным каллиграфом. ЧЕРЕПАХА: Это было бы чудесно. (Краб подходит к элегантному книжному шкафу с застекленными дверцами, открывает его и достает два больших тома.) КРАБ: Вот, пожалуйста, г-жа Черепаха. Я сам еще не видел всех прекрасных иллюстраций в этом издании, все никак клешни не доходят. Может быть, ваш подарок меня наконец на это подвигнет. ЧЕРЕПАХА: Надеюсь. МУРАВЬЕД: Вы заметили, что во всех этих произведениях прелюдия точно определяет настроение следующей фуги? КРАБ: О, да. Хотя это трудно объяснить, но между ними всегда есть некая таинственная связь. Даже если у прелюдии и фуги нет общей музыкальной темы, в них всегда присутствует неуловимое абстрактное нечто, которое их прочно связывает. ЧЕРЕПАХА: И в кратких моментах тишины, которые отделяют прелюдию от фуги, есть что-то необыкновенно драматическое. Это тот момент, когда тема фуги готова вступить в свои права, сначала в отдельных голосах, которые потом сплетаются, создавая все более сложные уровни странной, изысканной гармонии. АХИЛЛ: Я знаю, что вы имеете в виду. Я слышал еще далеко не все прелюдии и фуги, но меня очень волнует этот момент тишины; в это время я всегда пытаюсь угадать, что старик Бах задумал на этот раз. Например, я всегда спрашиваю себя, в каком темпе будет следующая фуга? Будет ли это аллегро или адажио? Будет ли она на 6/8 или на 4/4? Будет ли в ней три голоса, или пять — или четыре? И вот звучит первый голос… Потрясающий момент! КРАБ: Да, я помню давно ушедшие дни моей юности, дни, когда я трепетал от счастья, слушая эти прелюдии и фуги, возбужденный их новизной и красотой, и теми сюрпризами, которые они скрывают. АХИЛЛ: А теперь? Неужели этот счастливый трепет прошел? КРАБ: Он перешел в привычку, как всегда и бывает с подобными чувствами. Но в привычке также есть своя глубина, и это приносит определенное удовлетворение. Кроме того, я всегда обнаруживаю какие-нибудь новые сюрпризы, которых раньше не замечал. АХИЛЛ: Повторения темы, которых вы раньше не слышали? КРАБ: Может быть; в особенности, когда эта тема проходит в обращении, спрятанная среди нескольких других голосов, или когда она поднимается на поверхность, словно возникая из ничего. Есть там также и удивительные модуляции, которые приятно слушать снова и снова, спрашивая себя, как это старик Бах смог создать подобное. АХИЛЛ: Приятно слышать, что все эти радости останутся у меня после того, как пройдет моя первая влюбленность в Хорошо Темперированный Клавир — жаль, однако, что это блаженное состояние не может длиться вечно. КРАБ: Не бойтесь, влюбленность не пройдет бесследно. Эта юношеская влюбленность хороша тем, что ее всегда можно оживить именно тогда, когда вы считаете, что она уже умерла. Для этого необходим лишь толчок извне в нужном направлении. АХИЛЛ: Правда? Что же это за толчок? КРАБ: Например, прослушивание этой музыки ушами того, кто слушает ее в первый раз; такой человек здесь вы, Ахилл. Каким-то образом ваш трепет передается мне, и я снова полон блаженного восторга! АХИЛЛ: Звучит интригующе. Восторг спит где-то внутри вас, но сами вы не в состоянии вытащить его из глубин подсознания. КРАБ: Именно так. Возможность оживить это чувство “закодирована” каким-то образом в структуре моего мозга, но я не могу осуществить это по желанию; я должен ждать счастливого случая, который запустит этот механизм. АХИЛЛ: У меня вопрос насчет фуг; мне стыдно об этом спрашивать, но, поскольку я новичок в искусстве слушания фуг, не может ли кто-нибудь из вас, матерых слушателей, научить меня кое-чему? ЧЕРЕПАХА: Я с удовольствием поделюсь с вами своими скудными познаниями, если это может вам чем-то помочь. АХИЛЛ: О, благодарю вас. Позвольте мне начать издалека. Знакомы ли вы с гравюрой М. К. Эшера под названием “Куб с магическими лентами”? ЧЕРЕПАХА: На которой изображены изогнутые ленты с искривлениями в виде пузырей, которые кажутся попеременно то выпуклыми, то вогнутыми? АХИЛЛ: Она самая. КРАБ: Я помню эту картину. Кажется, что пузыри на ней все время перескакивают из одного состояния в другое: они то выпуклые, то вогнутые, в зависимости от того, с какого угла на них посмотреть. Невозможно одновременно увидеть их и выпуклыми, и вогнутыми — почему-то мозг этого просто не позволяет. У нас просто есть два разных способа воспринять эти пузыри. 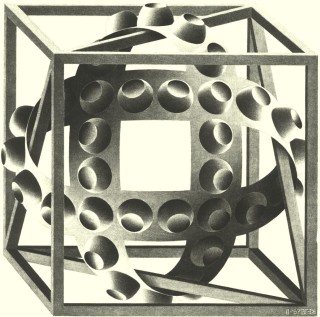 М. К. Эшер. “Куб с магическими лентами” АХИЛЛ: Вы совершенно правы. Знаете, мне кажется, что я открыл два способа слушать фугу, в чем-то аналогичных этому. Вот они: либо следить лишь за одним отдельным голосом в каждый момент, либо слушать общее звучание, не пытаясь распутать голоса. Я пробовал оба эти способа и, к моему разочарованию, оказалось, что каждый из них исключает другой. Это просто не в моей власти слушать каждый индивидуальный голос и в то же время слышать общий эффект. Я все время перескакиваю с одного способа на другой, более или менее спонтанно и непроизвольно. МУРАВЬЕД: Так же, как когда вы смотрите на магические ленты? АХИЛЛ: Да. Но скажите… мое описание двух способов слушания фуги безошибочно указывает на меня, как на наивного, неопытного слушателя, не способного уловить более глубокие уровни восприятия? ЧЕРЕПАХА: Вовсе нет, Ахилл. Я могу говорить только за себя, но я тоже постоянно перепрыгиваю с одного способа на другой, не контролируя этот процесс и не пытаясь сознательно решить, какой из двух способов должен господствовать. Не знаю, испытывали ли остальные наши друзья что-нибудь подобное. КРАБ: Безусловно. Это весьма мучительное состояние, поскольку вы чувствуете, что дух фуги витает где-то близко — но вы не можете охватить его полностью, так как не в состоянии слушать сразу двумя способами. МУРАВЬЕД: У фуг есть интересная особенность: каждый из голосов является музыкальной пьесой сам по себе, так что фугу можно рассматривать как набор нескольких различных музыкальных произведений, основанных на одной и той же теме и исполняемых одновременно. И слушатель (или его подсознание) должен сам решать, воспринимать ли фугу как целое или как набор отдельных частей, гармонирующих друг с другом. АХИЛЛ: Вы говорите, что эти части “независимы”, однако это не может быть совершенно верным. Между ними должна существовать какая-то координация, иначе, когда они исполняются вместе, мы слышали бы беспорядочное столкновение звуков — а это далеко не так! МУРАВЬЕД: Наверное, лучше сказать так: если бы вы слушали каждый голос в отдельности, вы обнаружили бы, что он имеет смысл сам по себе. Он может быть исполнен в одиночку, и именно это я имел в виду, говоря, что голоса независимы. Но вы совершенно правы, указывая, что каждая из этих индивидуальных мелодий соединяется с остальными совсем не случайным образом, сливаясь в изящное целое. Искусство создания прекрасных фуг заключается именно в умении соединять несколько линий, каждая из которых кажется написанной ради своей собственной красоты — но когда они взяты все вместе, целое звучит вполне естественно. Между прочим, двойственность между слушанием фуги как целого и слушанием составляющих ее голосов — это частный пример более общей двойственности, приложимой к разным структурам, построенным, начиная с нижних уровней. АХИЛЛ: Правда? Вы хотите сказать, что мои два “способа” приложимы не только к ситуации со слушанием фуг? МУРАВЬЕД: Совершенно верно. АХИЛЛ: Интересно, как это может быть. Наверное, это связано с попеременным восприятием чего-либо то как целого, то как собрания его частей. Но я сталкивался с этой дихотомией только слушая фуги. ЧЕРЕПАХА: Вот это да! Посмотрите-ка! Я только что перевернула страницу, следя за музыкой, и нашла великолепную иллюстрацию на странице перед титульным листом. КРАБ: Я раньше никогда не видел этой иллюстрации. Будьте добры, передайте книгу по кругу. (Черепаха передает книгу. Каждый из четырех приятелей рассматривает книгу по-своему — кто издалека, кто поднося прямо к глазам — при этом каждый из них качает головой в удивлении. Наконец, книга обходит всех и возвращается к Черепахе, которая смотрит в нее очень внимательно.) АХИЛЛ: Мне кажется, прелюдия почти кончилась. Хотелось бы знать, удастся ли мне, слушая фугу, найти ответ на этот опрос: “как нужно слушать фугу: как целое или как сумму частей?” ЧЕРЕПАХА: Слушайте внимательно и вы поймете! (Прелюдия заканчивается. Следует пауза, и затем …) …и Муравьиная фуга …тут, один за другим, вступают четыре голоса фуги.) АХИЛЛ: Вы не поверите, но ответ на этот вопрос — прямо у вас перед носом: он спрятан в картинке. Это всего лишь одно слово, но преважное: “МУ”! КРАБ: Вы не поверите, но ответ на этот вопрос — прямо у вас перед носом: он спрятан в картинке. Это всего лишь одно слово, но преважное: “ХОЛИЗМ”! АХИЛЛ: Погодите-ка… вам, наверное, почудилось. Ясно, как день, что на картине написано “МУ”, а не “ХОЛИЗМ”. КРАБ: Прошу прощения, но у меня отличное зрение. Взгляните-ка еще раз, прежде чем говорить, что на картинке нет моего слова. МУРАВЬЕД: Вы не поверите, но ответ на этот вопрос — прямо у вас перед носом: он спрятан в картинке. Это всего лишь одно слово, но преважное: “РЕДУКЦИОНИЗМ”! КРАБ: Погодите-ка… вам, наверное, почудилось. Ясно, как день, что на картине написано “ХОЛИЗМ”, а не “РЕДУКЦИОНИЗМ”. АХИЛЛ: Еще один фантазер! На картинке написано не “ХОЛИЗМ” и не “РЕДУКЦИОНИЗМ”, а “МУ” — в этом я совершенно уверен! МУРАВЬЕД: Прошу прощения, но у меня великолепное зрение. Взгляните-ка еще раз, прежде чем говорить, что на картинке нет моего слова. АХИЛЛ: Вы что, не видите, что картинка состоит из двух частей, и каждая из них — одна буква? КРАБ: Вы правы насчет двух частей, но в остальном вы ошибаетесь. Левая часть состоит из грех копий одного и того же слова — “ХОЛИЗМ”, а правая часть — из многих маленьких копий того же слова. Не знаю, почему буквы в одной части больше, но то, что передо мной “ХОЛИЗМ”, ясно как день! 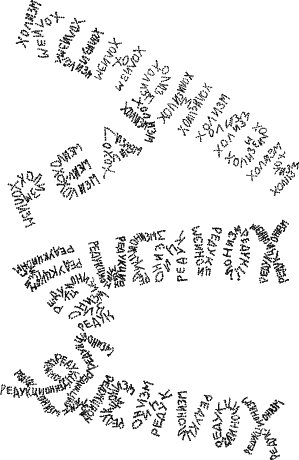 Рисунок автора (русский графический вариант выполнен переводчиком). МУРАВЬЕД: Вы правы насчет двух частей, но в остальном вы ошибаетесь. Левая часть состоит из многих маленьких копий одного и того же слова: “РЕДУКЦИОНИЗМ”, а правая — из того же слова, написанного большими буквами. Не знаю, почему буквы в одной части больше, но то, что передо мной “РЕДУКЦИОНИЗМ”, ясно как день! Не понимаю, как здесь можно увидеть что-либо иное. АХИЛЛ: Я понял, в чем здесь дело. Каждый из вас видит буквы, которые либо составляют другие буквы, либо сами из них состоят. В левой части действительно есть три “ХОЛИЗМА”, но каждый из них состоит из маленьких копий слова “РЕДУКЦИОНИЗМ”. И наоборот, “РЕДУКЦИОНИЗМ” в правой части составлен из маленьких копий слова “ХОЛИЗМ”. Все это замечательно, но пока вы ссорились из-за пустяков, вы оба пропустили самое главное, не увидев за деревьями леса. Что толку спорить о том, что правильно, — “ХОЛИЗМ” или “РЕДУКЦИОНИЗМ” — когда гораздо лучше взглянуть на дело извне, ответив “МУ”. КРАБ: Теперь я вижу картинку так, как вы ее описали, Ахилл, — но что вы подразумеваете под этим странным выражением “взглянуть на дело извне”? МУРАВЬЕД: Теперь я вижу картинку так, как вы ее описали, Ахилл, — но что вы подразумеваете под этим странным выражением “МУ”? АХИЛЛ: Буду счастлив вас просветить, если вы будете так любезны и скажете мне, что значат эти странные выражения, “ХОЛИЗМ” и “РЕДУКЦИОНИЗМ”. КРАБ: Нет ничего проще ХОЛИЗМА. Это всего-навсего означает, что целое больше, чем сумма его частей. Ни один человек, если он в здравом уме, не может отрицать холизма. МУРАВЬЕД: Нет ничего проще РЕДУКЦИОНИЗМА. Это всего-навсего означает, что целое может быть полностью понято, если вы понимаете и его части, и природу их “суммы”. Ни один человек, если он в твердой памяти, не может отрицать редукционизма. КРАБ: Я отрицаю редукционизм. К примеру, можете ли вы объяснить мне, как понять мозг с помощью редукционизма? Любое редукционистское описание мозга неизбежно столкнется с трудностями, пытаясь объяснить, откуда в мозгу берется сознание. МУРАВЬЕД: Я отрицаю холизм. К примеру, можете ли вы объяснить мне, как холистское описание муравьиной колонии может помочь понять ее лучше, чем описание отдельных муравьев, их взаимоотношений и ролей внутри колонии. Любое холистское описание муравьиной колонии неизбежно столкнется с трудностями, пытаясь объяснить, откуда в ней берется сознание. АХИЛЛ: О нет! Я вовсе не хотел быть причиной еще одного спора. Я понимаю, в чем суть несогласия, но думаю, что мое объяснение “МУ” вам поможет. Видите ли, “МУ” — это старинный ответ дзен-буддизма, “развопросивающий” вопрос. Нашим вопросом было: “Должны ли мы понимать мир холистским или редукционистским способом?” Ответ “МУ” отрицает самую постановку этого вопроса предположение, что необходимо выбрать лишь один из двух способов. Развопросивая этот вопрос, “МУ” открывает нам истину высшего порядка: существует более широкий контекст, куда вписываются и холистский и редукционистский подходы. МУРАВЬЕД: Чепуха! В вашем “МУ” не больше смысла, чем в коровьем мычаньи. Я не собираюсь глотать эту буддистскую бурду. КРАБ: Чушь! В вашем “МУ” не больше смысла, чем в кошачьем мяукании. Я не намерен слушать эту буддистскую белиберду. АХИЛЛ: Ах, боже мой. Так мы ни до чего не дойдем. Почему вы все молчите, г-жа Черепаха? Это меня нервирует. Вы-то наверняка знаете, как распутать этот клубок! ЧЕРЕПАХА: Вы не поверите, но ответ на этот вопрос — прямо у вас перед носом: он спрятан в картинке. Это всего лишь одно слово, но преважное: “МУ”! (В этот момент вступает четвертый голос фуги, точно на октаву ниже первого голоса.) АХИЛЛ: Эх, г-жа Ч, на этот раз вы меня разочаровали. Я был уверен, что вы, с вашей проницательностью, сможете разрешить эту дилемму — но, к сожалению, вы увидели ничуть не больше меня. Что же делать, — наверное, я должен быть счастлив, что хотя бы один раз мне удалось увидеть столько же, сколько и г-же Черепахе. ЧЕРЕПАХА: Прошу прощения, но у меня превосходное зрение. Взгляните-ка еще раз, прежде чем говорить, что на картинке нет моего слова. АХИЛЛ: Разумеется — вы просто повторили мою первоначальную идею. ЧЕРЕПАХА: Может быть, “МУ” существует на картине на более глубоком уровне, чем вам кажется, Ахилл — образно говоря, на октаву ниже. Но я сомневаюсь, что мы сумеем разрешить наш спор таким абстрактным способом. Я хотела бы увидеть обе точки зрения, и холистскую, и редукционистскую, выраженные более конкретно. Тогда у нас будет больше оснований для решения вопроса — хотя бы на примере редукционистского описания муравьиной колонии. КРАБ: Может быть, д-р Муравьед поделится своим опытом на этот счет? Благодаря своей профессии, он должен быть экспертом по этой теме. ЧЕРЕПАХА: Я уверена, что нам есть чему у вас поучиться, д-р Муравьед. Можете ли вы нас просветить, рассказав нам, что собой представляет муравьиная колония с редукционистской точки зрения? МУРАВЬЕД: С удовольствием. Как уже говорил Краб, моя профессия позволила мне весьма глубоко понять муравьиные колонии. АХИЛЛ: Представляю себе! Любой муравьед должен быть экспертом по муравьиным колониям. МУРАВЬЕД: Прошу прощения: муравьед — это не моя профессия, это мой класс. По профессии я колониальный хирург. Я специализируюсь в излечении нервных расстройств колоний путем хирургического вмешательства. АХИЛЛ: Вот оно что… Но что вы имеете в виду под “нервными расстройствами” в муравьиной колонии? МУРАВЬЕД: Большинство моих пациентов страдает каким-либо расстройством речи. Представьте себе колонии, которым приходится каждый день мучиться в поисках нужного слова. Это может быть довольно трагично. Я пытаюсь исправить ситуацию путем… э-э-э… удаления пораженной части колонии. Эти операции иногда бывают очень сложными, и приходится учиться годами, прежде чем приняться за их выполнение. АХИЛЛ: Но… мне кажется, чтобы страдать расстройством речи, сначала необходимо иметь дар речи? МУРАВЬЕД: Совершенно верно. АХИЛЛ: Поскольку у муравьиных колоний нет дара речи, должен признаться, что я слегка сбит с толку. КРАБ: Жаль, Ахилл, что вас здесь не было на прошлой неделе, когда у меня в гостях вместе с д-ром Муравьедом была г-жа Мура Вейник. Надо было пригласить и вас. АХИЛЛ: Кто такая эта Мура Вейник? КРАБ: Писательница и моя старая знакомая. МУРАВЬЕД: Она всегда настаивает, чтобы все звали ее полным именем (и это вовсе не псевдоним!); это одна из ее забавных причуд. КРАБ: Верно, Мура Вейник — особа эксцентрическая, но при этом она так мила… Какая жалость, что вы с ней не встретились. МУРАВЬЕД: Она, безусловно, одна из самых образованных муравьиных колоний, с которыми я когда-либо имел счастье общаться. Мы с ней скоротали множество вечеров, беседуя на самые разнообразные темы. АХИЛЛ: Я-то думал, муравьеды — пожиратели муравьев, а не покровители колоний! МУРАВЬЕД: На самом деле одно не исключает другого. Я в самых лучших отношениях с муравьиными колониями. Я ем всего лишь МУРАВЬЕВ, и это приносит пользу как мне, так и колонии. АХИЛЛ: Как это возможно, чтобы — ЧЕРЕПАХА: Как это возможно, чтобы — АХИЛЛ: — пожирание ее муравьев шло колонии на пользу? КРАБ: Как это возможно, чтобы — ЧЕРЕПАХА: — лесной пожар пошел лесу на пользу? АХИЛЛ: Как это возможно, чтобы — КРАБ: — прореживание ветвей шло дереву на пользу? МУРАВЬЕД: — стрижка волос пошла Ахиллу на пользу? ЧЕРЕПАХА: Наверное, вы были так поглощены спором, что пропустили мимо ушей прелестную стретту, только что прозвучавшую в Баховской фуге. АХИЛЛ: Что такое стретта? ЧЕРЕПАХА: Ох, извините пожалуйста: я думала, вы знакомы с этим термином. Стретта — это когда голоса вступают почти сразу один за другим, исполняя одну и ту же тему. АХИЛЛ: Если я буду слушать фуги часто, вскоре я буду знать все эти штуки и смогу услышать их сам, без подсказки. ЧЕРЕПАХА: Простите, что перебила, друзья мои. Д-р Муравьед как раз пытался объяснить, как, поедая муравьев, можно при этом оставаться другом муравьиной колонии. АХИЛЛ: Что ж, я могу, пожалуй, кое-как понять, как подъедание некоторого ограниченного количества муравьев может быть полезным для здоровья всей колонии — но что действительно приводит меня в замешательство, это рассказы о разговорах с муравьиными колониями. Это невозможно! Муравьиная колония — это не более, чем куча муравьев, снующих туда и сюда в поисках еды и строящих себе гнезда. МУРАВЬЕД: Можете считать так, если вы настаиваете на том, чтобы смотреть на деревья, но не видеть за ними леса. На самом деле муравьиная колония, видимая как одно целое, — это весьма определенная единица, с собственными качествами, иногда включающими владение речью. АХИЛЛ: Трудно представить, что если я закричу где-нибудь в лесу, то в ответ до меня донесется голос муравьиной колонии. МУРАВЬЕД: Не говорите глупостей, мой друг, это происходит совсем не так. Муравьиные колонии не говорят вслух, они общаются письменно. Вы, наверное, видели, как муравьи прокладывают тропы туда и сюда? АХИЛЛ: Да, конечно; обычно они ведут из кухонной раковины прямиком в мой любимый торт “Птичье молоко”. МУРАВЬЕД: Оказывается, некоторые такие тропы содержат закодированную информацию. Если вы знаете эту систему, вы можете читать то, что они говорят, словно книгу. АХИЛЛ: Потрясающе. И вы можете, в свою очередь, что-нибудь им сообщить? МУРАВЬЕД: Без проблем. Именно так Мура Вейник и я беседуем друг с другом часами. Я беру прутик, черчу на влажной земле тропинки и смотрю, как муравьи по ним направляются. Вдруг где-то начинает формироваться новая тропинка… я получаю большое удовольствие, наблюдая за их появлением. Я пытаюсь предсказать, в каком направлении пойдет та или иная тропа (мои предсказания по большей части бывают ошибочны). Когда тропа заканчивается, я знаю, о чем думает Мура Вейник, и тогда, в свою очередь, могу ей ответить. АХИЛЛ: Ручаюсь, что в этой колонии есть необыкновенно умные муравьи. МУРАВЬЕД: По-моему, вы еще не научились видеть различие между уровнями. Подобно тому, как вы не спутаете отдельное дерево с лесом, вы не должны принимать отдельного муравья за всю колонию. Видите ли, Мура Вейник состоит из массы муравьев, каждый из которых глуп как пробка. Они не смогли бы разговаривать даже ради спасения своих жалких хитиновых покровов! АХИЛЛ: В таком случае, откуда берется это умение беседовать? Оно должно находиться где-то внутри колонии! Не понимаю, как это получается: все муравьи глупы как пробка, а Мура Вейник часами занимает вас своей остроумной беседой. ЧЕРЕПАХА: Мне кажется, что эта ситуация напоминает человеческий мозг, состоящий из нейронов. Чтобы объяснить человеческую способность к разумной беседе, никто не стал бы утверждать, что отдельные нервные клетки — разумные существа. АХИЛЛ: Разумеется, нет. Тут вы совершенно правы. Но мне кажется, что муравьи — это совершенно из другой оперы. Они снуют туда и сюда по собственному желанию, совершенно беспорядочно, иногда натыкаясь на съедобный кусочек… Они вольны делать все, что им угодно. Из-за этой свободы я совершенно не понимаю, как может их поведение в целом порождать нечто осмысленное, сравнимое с поведением мозга, необходимым для беседы. КРАБ: Я думаю, что муравьи свободны только до определенных пределов. Например, они свободны бродить где угодно, трогать друг друга, строить тропинки, поднимать небольшие предметы и так далее. Но они никогда не выходят из этого ограниченного мирка, так сказать, мура-системы, в которой они находятся. Это им никогда не пришло бы в голову, так как у них для этого не хватает ума. Таким образом, муравьи — весьма надежные компоненты, в том смысле, что они всегда делают определенные вещи определенным образом. АХИЛЛ: И все же, внутри этих пределов они остаются свободными и бегают без толку, не выказывая никакого уважения к мыслительным процессам существа высшего порядка, составными частями которого они, по утверждению д-ра Муравьеда, являются. МУРАВЬЕД: Да, но вы, Ахилл, упускаете из вида одну вещь: регулярность статистики. АХИЛЛ: Как это? МУРАВЬЕД: Хотя отдельные муравьи снуют туда-сюда беспорядочно, тем не менее из этого хаоса можно выделить общие тропы, по которым идет большое количество муравьев. АХИЛЛ: Понятно. Действительно, муравьиные тропы — отличный пример этого явления. Хотя движения каждого отдельного муравья непредсказуемы, сама тропа выглядит весьма постоянной и определенной. Безусловно, это означает, что на самом деле муравьи движутся не так уж хаотично. МУРАВЬЕД: Точно, Ахилл. Муравьи сообщаются между собой достаточно, чтобы внести в их движение некоторую упорядоченность. При помощи этой минимальной связи они напоминают друг другу, что они — части одного целого и должны сотрудничать с товарищами по команде. Чтобы выполнить любую задачу, такую, например, как прокладывание тропинок, требуется множество муравьев, передающих то же сообщение друг другу в течение определенного времени. Хотя мое понимание того, что происходит в мозгу, весьма приблизительно, я предполагаю, что нечто подобное может происходить при сообщении нейронов. Не правда ли, м-р Краб, необходимо несколько нервных клеток, передающих сигнал другому нейрону, чтобы тот, в свою очередь, передал тот же сигнал? КРАБ: Совершенно верно. Возьмем, к примеру, нейроны в мозгу у Ахилла. Каждый из них принимает сигналы от нейронов, присоединенных к их “входу”, и если сумма этих сигналов в какой-то момент превышает критический порог, то нейрон посылает свой собственный сигнал, идущий к другим нейронам, которые в свою очередь, могут “возбудиться” — и так далее, и тому подобное. Нейронный луч устремляется, неутомимый, по Ахиллесовой тропе, по маршруту более причудливому, чем погоня голодной ласточки за комаром. Каждый поворот и изгиб определяется нейронной структурой Ахиллова мозга, пока не вмешиваются новые послания от органов чувств. АХИЛЛ: Я-то думал, что сам осуществляю контроль над своими мыслями — но ваше объяснение ставит все с ног на голову, так что теперь мне кажется, что “Я” — это лишь результат комбинации всей этой нейронной структуры с законами природы. Получается, что то, что я считал “СОБОЙ” — это, в лучшем случае, побочный продукт организма, управляемого законами природы, а в худшем случае, искусственное понятие, порожденное неверной перспективой. Иными словами, после вашего объяснения я уже не уверен, кто я такой (или что я такое). ЧЕРЕПАХА: Чем больше мы беседуем, тем лучше вы это будете понимать. Д-р Муравьед, а что вы думаете об этом сходстве? МУРАВЬЕД: Я подозревал, что в этих разных системах происходят похожие процессы; теперь я гораздо лучше понимаю, в чем дело. По-видимому, осмысленные групповые явления, такие, например, как прокладывание тропинок, начинают происходить только тогда, когда достигается определенное критическое количество муравьев. Когда несколько муравьев собираются вместе и начинают, может быть, чисто случайно, прокладку тропы, может произойти одно из двух: либо после короткого хаотического старта их деятельность быстро сойдет на нет — АХИЛЛ: Когда муравьев собирается недостаточно, чтобы продолжать тропу? МУРАВЬЕД: Именно так. Однако может случиться и так, что количество муравьев достигнет критической массы и начнет расти, как снежный ком. В этом случае возникает целая “команда”, работающая над одним проектом. Это может быть прокладка тропы, или поиски пищи, или ремонт муравейника. Несмотря на то, что в малом масштабе эта схема чрезвычайно проста, в большом масштабе она может привести к весьма сложным последствиям. АХИЛЛ: Я могу понять общую идею порядка, по вашим словам, возникающего из хаоса, но это еще очень далеко от умения беседовать. В конце концов, порядок возникает из хаоса и тогда, когда молекулы газа беспорядочно сталкиваются друг с другом — и результатом этого бывает лишь аморфная масса, характеризуемая всего тремя параметрами: объем, давление и температура. Это очень далеко от умения понимать мир и о нем разговаривать! МУРАВЬЕД: Это подчеркивает весьма важную разницу между объяснением поведения муравьиной колонии и поведения газа в контейнере. Поведение газа можно объяснить, рассчитав статистические особенности движения его молекул. При этом не требуется обсуждать никаких высших, чем молекулы, элементов его структуры, кроме самого газа целиком. С другой стороны, в случае муравьиной колонии невозможно понять происходящие там действия без анализа нескольких уровней ее структуры. АХИЛЛ: А, теперь понимаю. В случае газа, всего один шаг переносит нас с низшего уровня — молекулы — на высший уровень — сам газ. Там нет промежуточных уровней. Но как возникают промежуточные уровни организованного действия в муравьиной колонии? МУРАВЬЕД: Это связано с тем, что в колонии есть несколько разных типов муравьев. АХИЛЛ: Кажется, я что-то об этом слышал. Это называется “касты”, да? МУРАВЬЕД: Верно. Кроме царицы-матки, там есть самцы-трутни, совершенно не занимающиеся работой по поддержанию муравейника, и еще — АХИЛЛ: И, разумеется, там есть воины — Славные Борцы Против Коммунизма! КРАБ: Гм-м-м… В этом-то я сомневаюсь, Ахилл. Муравьиная колония весьма коммунистична но своей структуре, так что ее солдатам незачем бороться против коммунизма. Правильно, д-р Муравьед? МУРАВЬЕД: Да, насчет колоний вы правы, м-р Краб: они действительно основаны на принципах, смахивающих на коммунистические. Но Ахилл в своих представлениях о солдатах весьма наивен. На самом деле, так называемые “солдаты” едва умеют сражаться. Это медлительные неуклюжие муравьи с гигантскими головами; они могут цапнуть своими мощными челюстями, но прославлять их не стоит. Как в настоящих коммунистических государствах, прославлять надо, скорее, хороших работников. Именно они выполняют большинство работ: собирают пищу, охотятся и ухаживают за детишками. Даже сражаются в основном они. АХИЛЛ: Гм-м. Это просто абсурд; солдаты, которые не сражаются! МУРАВЬЕД: Как я только что говорил, на самом деле они не солдаты. Роль солдат выполняют работники, в то время как солдаты — просто разжиревшие лентяи. АХИЛЛ: О, какой позор! Если бы я был муравьем, я бы навел у них дисциплину! Я вдолбил бы ее в головы этим бесстыдникам! ЧЕРЕПАХА: Если бы вы были муравьем? Как вы могли бы стать муравьем? Нет никакой возможности спроецировать ваш мозг на мозг муравья, так что и нечего беспокоиться о таком пустом вопросе. Больше смысла имело бы попытаться отобразить ваш мозг на всю муравьиную колонию… Но не будем отвлекаться; позволим д-ру Муравьеду продолжить его ученое объяснение каст и их роли в высших уровнях организации. МУРАВЬЕД: С удовольствием. Есть множество работ, необходимых для жизни колонии, и муравьи развивают “специализацию”. Обычно специальность муравья меняется с возрастом, но она также зависит и от его касты. В каждый данный момент в любой маленькой области колонии можно найти муравьев всех типов. Разумеется, в некоторых местах какая-либо каста может быть представлена всего несколькими муравьями, тогда как в другом месте муравьев той же касты может быть очень много. КРАБ: Скажите, а “плотность” касты или специальности случайна? Почему муравьев определенного типа собирается больше в одном месте и меньше в другом? МУРАВЬЕД: Я рад, что вы об этом спросили, поскольку это очень важно для понимания того, как думает колония. Со временем в колонии развивается очень точное распределение каст. Именно это распределение отвечает за сложность колонии, необходимую, чтобы вести беседы. АХИЛЛ: Мне кажется, что постоянное движение муравьев туда-сюда делает абсолютно невозможным какое бы то ни было точное распределение. Любое такое распределение было бы тут же нарушено беспорядочным движением муравьев, так же как любые сложные структуры молекул газа не живут больше мгновения из-за беспорядочной бомбардировки со всех сторон. МУРАВЬЕД: В муравьиной колонии ситуация совершенно обратная. На самом деле, именно постоянное снованье муравьев туда-сюда сохраняет и регулирует распределение каст в различных ситуациях. Оно не может оставаться одним и тем же. Оно должно непрерывно меняться, в некотором смысле отражая реальную ситуацию, с которой имеет дело колония в данный момент. Именно передвижение муравьев внутри колонии помогает приспособить распределение каст к нужной ситуации. ЧЕРЕПАХА: Приведите, пожалуйста, пример. МУРАВЬЕД: С удовольствием. Когда я, муравьед, прихожу в гости к г-же М. Вейник, глупенькие муравьи, учуяв мой запах, начинают паниковать — это значит, что они принимаются бегать кругами, как сумасшедшие, совершенно иначе, чем они двигались до моего прихода. АХИЛЛ: Ну, это-то понятно, поскольку вы — смертельный враг колонии. МУРАВЬЕД: Ну нет. Повторяю, нет ничего дальше от истины. Мура Вейник и я — лучшие друзья. Я ее любимый собеседник, она — моя любимая Мурочка. Конечно, вы правы — муравьи по отдельности меня до смерти боятся. Но это совершенно другое дело! Так или иначе, как видите, в ответ на мой приход внутреннее распределение муравьев в колонии полностью изменяется. АХИЛЛ: Ясно. МУРАВЬЕД: Новая дистрибуция отражает новую ситуацию — мое присутствие. Видите ли, все зависит от того, как вы решите описывать распределение каст. Если вы продолжаете думать в терминах низших уровней — отдельных муравьев — то не видите леса за деревьями. Это слишком микроскопический уровень, а мысля микроскопическими категориями, вы обязательно упустите из виду некоторые крупномасштабные явления. Вы должны найти подходящую систему крупномасштабного описания кастовой дистрибуции; только тогда вы поймете, каким образом в распределении каст закодировано так много информации. АХИЛЛ: Как же найти единицы нужного размера для описания состояния колонии? МУРАВЬЕД: Что ж, начнем с самого начала. Когда муравьям нужно что-то сделать, они составляют маленькие “команды”, которые работают вместе. Маленькие группы муравьев постоянно разваливаются и снова образуются. Те, что держатся вместе дольше — настоящие команды; они не разбегаются, так как у муравьев есть общее дело. АХИЛЛ: Вы говорили, что группа остается вместе, если количество муравьев достигает некоторого критического порога. Теперь вы утверждаете, что группа держится вместе, если у них есть какое-то дело. МУРАВЬЕД: Эти утверждения эквивалентны. Возьмем, например, собирание еды: если какой-то муравей находит небольшое количество пищи и в своем энтузиазме сообщает об этом товарищам, число муравьев, которые ответят на зов, будет пропорционально количеству найденной еды. Если еды мало, она не привлечет критического количества муравьев. Именно это я и имел в виду, говоря об общем деле: со слишком маленьким кусочком пищи нечего делать, его надо просто игнорировать. АХИЛЛ: Понятно. Значит, эти команды — промежуточный уровень структуры между отдельными муравьями и колонией в целом. МУРАВЬЕД: Совершенно верно. Существует специальный тип команды, который я называю “сигналом”. Все высшие уровни структуры основаны на сигналах. На самом деле, все высшие существа являются набором сигналов, действующих согласованно. На высшем уровне существуют команды, составленные не из муравьев, а из команд низших уровней. Рано или поздно вы достигаете команд низшего уровня, то есть сигналов, а затем — отдельных муравьев. АХИЛЛ: Чему же команды-сигналы обязаны своим именем? МУРАВЬЕД: Своей функции. Задача сигналов — переправлять муравьев разных “профессий” в нужные места колонии. Типичная история сигнала такова: он формируется, когда перейден критический порог, необходимый для выживания команды, затем мигрирует на какое-то расстояние внутри колонии, и в определенный момент распадается на индивидуальных членов, предоставляя их своей судьбе. АХИЛЛ: Это похоже на волну, несущую издалека ракушки и водоросли и оставляющую их на берегу. МУРАВЬЕД: Действительно, это в чем-то аналогично, поскольку команда на самом деле должна оставить что-то, принесенное издалека, но волна отходит обратно в море, в то время как в случае сигнала аналогичной переносящей субстанции не существует, поскольку его составляют сами же муравьи. ЧЕРЕПАХА: И, вероятно, сигнал начинает распадаться именно в том месте колонии, где нужны муравьи данного типа. МУРАВЬЕД: Естественно. АХИЛЛ: Естественно? МНЕ вовсе не так ясно, почему сигнал должен направляться именно туда, где он требуется. И даже если он идет в нужном направлении, откуда он знает, когда надо расходиться? Откуда он знает, что он прибыл на место своего назначения? МУРАВЬЕД: Это очень важный вопрос. Он касается целенаправленного поведения — или того, что кажется целенаправленным поведением — сигналов. Из моего описания следует, что поведение сигналов можно охарактеризовать как направленное на выполнение некой задачи, и назвать его “целенаправленным”. Но можно посмотреть на это и иначе. АХИЛЛ: Подождите-ка. Либо поведение целенаправлено, либо НЕТ. Не понимаю, как можно иметь сразу обе возможности. МУРАВЬЕД: Позвольте мне объяснить мою позицию и, может быть, тогда вы со мной согласитесь. Видите ли, когда сигнал сформирован, он понятия не имеет о том, что должен идти в каком-то определенном направлении. Но здесь решающую роль играет точное распределение каст. Именно оно определяет движение сигналов по колонии и то, как долго сигнал будет существовать и когда ему придет время “раствориться”. АХИЛЛ: Так что все зависит от дистрибуции каст? МУРАВЬЕД: Верно. Предположим, сигнал движется вперед. В это время составляющие его муравьи сообщаются, либо путем прямого контакта, либо путем обмена запахов, с муравьями тех областей, где они проходят. Контакты и запахи передают информацию о местных необходимостях, как, скажем, построение гнезда или уход за детьми. Сигнал будет держаться вместе и продвигаться вперед до тех пор, пока местные нужды будут отличны от того, что он способен дать; но если его помощь ВОЗМОЖНА, он распадается на отдельных муравьев, которые могут быть использованы как дополнительная рабочая сила. Понимаете, каким образом распределение каст “ведет” сигналы внутри колонии? АХИЛЛ: Да, теперь вижу. МУРАВЬЕД: Вы понимаете, что, рассматривая вещи с подобной точки зрения, нельзя приписать сигналу какую-либо цель? АХИЛЛ: Думаю, вы правы. На самом деле, я начинаю видеть ситуацию с двух сторон. С точки зрения муравьев, у сигнала нет никакой цели. Типичный муравей в сигнале просто бродит по колонии, не ища ничего особенного, пока не почувствует, что надо бы остановиться. Обычно его товарищи по команде согласны, и тогда команда “разгружается”, и муравьи начинают действовать сами по себе. Для этого не нужно ни планов, ни заглядывания вперед, ни поиска нужного направления. Но с точки зрения КОЛОНИИ команда только что ответила на сообщение, написанное на языке кастовой дистрибуции. С этой точки зрения деятельность команды кажется целенаправленной. КРАБ: Что произошло бы, если бы распределение каст было совершенно случайным? Команды все равно бы формировались и расформировывались? МУРАВЬЕД: Безусловно. Но благодаря бессмысленному распределению каст, колония не просуществовала бы долго. КРАБ: Именно к этому я и веду. Колонии выживают потому, что их кастовая дистрибуция имеет смысл, и этот смысл — холистский аспект, невидимый на низших уровнях. Существование колонии невозможно объяснить, не принимая в расчет высшего уровня. МУРАВЬЕД: Я понимаю вас, но мне кажется, вы смотрите на вещи слишком узко. КРАБ: Почему же? МУРАВЬЕД: Муравьиные колонии эволюционировали в течение биллионов лет. Несколько механизмов прошли отбор, но большинство было забраковано. Конечным результатом явился набор механизмов, позволяющих колониям функционировать так, как мы только что описали. Если бы мы могли увидеть весь этот процесс в виде фильма, ускоренного в биллионы раз, возникновение новых механизмов выглядело бы как естественная реакция на внешние стимулы, подобно тому, как пузыри в кипящей воде — реакция на внешний источник тепла. Я сомневаюсь, что вы могли бы увидеть некий “смысл” и “цель” в пузырях в кипящей воде — или я ошибаюсь? КРАБ: Нет, но — МУРАВЬЕД: Хорошо; а вот МОЯ точка зрения. Как бы ни был велик такой пузырь, он обязан своим существованием процессам на молекулярном уровне, и вы можете забыть о “законах высшего уровня”. То же самое верно и в случае колоний и команд. Глядя на картину с точки зрения эволюции, вы можете лишить всю колонию смысла и цели существования. Эти понятия становятся лишними. АХИЛЛ: В таком случае, д-р Муравьед, почему же вы говорите мне, что беседуете с мадам Вейник? Теперь мне кажется, что вы отказываете ей в каком-либо умении мыслить или говорить. МУРАВЬЕД: Здесь нет никакого противоречия, Ахилл. Видите ли, мне так же трудно, как и другим, видеть вещи в таком грандиозном временном масштабе. Для меня гораздо легче поменять угол зрения. Когда я забываю об эволюции и вижу вещи такими, какими они являются здесь и сейчас, термины телеологии вновь обретают смысл: ЗНАЧЕНИЕ кастовой дистрибуции и ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОСТЬ сигналов. Это происходит не только тогда, когда я думаю о муравьиных колониях, но и когда я думаю о моем собственном мозге. Однако, сделав небольшое усилие, я всегда могу вспомнить и о другой точке зрения и увидеть эти системы как лишенные смысла. КРАБ: Эволюция, безусловно, творит чудеса. Никогда не знаешь, какой новый фокус она выкинет. Например, я не удивился бы, если бы существовала теоретическая возможность того, что два или более “сигналов” могли бы пройти сквозь друг друга, понятия не имея, что другой при этом тоже является сигналом; каждый из них считает, что другой — лишь часть местного населения. МУРАВЬЕД: Это возможно не только теоретически; именно так обыкновенно и происходит! АХИЛЛ: Гм-м… Какая странная картина мне пришла в голову. Я вообразил муравьев, двигающихся в четырех разных направлениях; некоторые муравьи белые, некоторые — черные; они перекрещиваются, образуя упорядоченный узор, почти как… почти как… ЧЕРЕПАХА: Фуга, может быть? АХИЛЛ: Ага! Именно: муравьиная фуга! КРАБ: Интересный образ, Ахилл. Кстати, все эти разговоры о кипятке навели меня на мысль о чае. Кто хочет еще чашечку? АХИЛЛ: Не откажусь, м-р Краб. КРАБ: Отлично. АХИЛЛ: Как вы думаете, можно ли выделить разные зрительные “голоса” в такой “муравьиной фуге”? Я знаю, как мне бывает трудно — ЧЕРЕПАХА: Мне не надо, благодарю вас. АХИЛЛ: — проследить отдельный голос — МУРАВЬЕД: Мне тоже немного, м-р Краб — АХИЛЛ: — в музыкальной фуге — 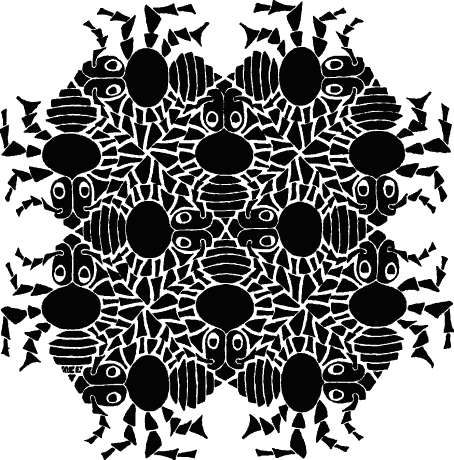 М. К. Эшер “Муравьиная фуга” (1953) МУРАВЬЕД: — если нетрудно — АХИЛЛ: — когда все они — КРАБ: Нисколько. Четыре чашки чая — ЧЕРЕПАХА: Три! АХИЛЛ: — звучат одновременно. КРАБ: — почти готовы! МУРАВЬЕД: Это интересная мысль, Ахилл. Но мне кажется маловероятным, чтобы кто-нибудь мог создать таким образом убедительную картину. АХИЛЛ: Очень жаль… ЧЕРЕПАХА: Может быть, вы могли бы мне ответить, д-р Муравьед. Сигнал, от своего рождения и до роспуска, всегда состоит из одних и тех же муравьев? МУРАВЬЕД: На самом деле отдельные муравьи в сигнале иногда “откалываются” и заменяются на муравьев той же касты, если какие-либо из них оказываются поблизости в данный момент. Чаще всего сигналы прибывают к месту своего “назначения”, не сохранив ни одного из первоначальных муравьев. КРАБ: Я вижу, что сигналы постоянно воздействуют на распределение каст на всем протяжении колонии, и это происходит в ответ на внутренние нужды колонии — которые, в свою очередь, отражают внешние ситуации в жизни колонии. Таким образом, как вы сказали, д-р Муравьед, кастовая дистрибуция постоянно изменяется в соответствии с нуждами момента, отражая внешний мир. АХИЛЛ: Но как же насчет промежуточных уровней структуры? Вы говорили, что распределение каст лучше всего описывать не в терминах отдельных муравьев или сигналов, но в терминах команд, состоящих из меньших команд, которые, в свою очередь, состоят из других команд — и так далее, пока мы не спустимся до уровня муравьев. И вы утверждали, что это — ключ к пониманию того, как распределение каст может заключать закодированную информацию о мире. МУРАВЬЕД: Да, я к этому и веду. Я предпочитаю называть команды достаточно высокого уровня “символами”. Но, видите ли, значение, которое я вкладываю в это слово, несколько отличается от обычного. Мои “символы” — АКТИВНЫЕ ПОДСИСТЕМЫ сложной системы, и они состоят из активных подсистем низших уровней. Таким образом они совершенно отличны от пассивных символов, находящихся вне системы, таких, как буквы алфавита или музыкальные ноты, которые совершенно инертны и ждут, чтобы активная система их обработала. АХИЛЛ: Как все это сложно… Я и не знал, что у муравьиных колоний такая абстрактная структура. МУРАВЬЕД: О да, она весьма замечательна. Но все эти слои структуры необходимы для хранения того типа знаний, которые позволяют организму быть “разумным” в любом приемлемом значении этого слова. У любой системы, владеющей языком, уровни структуры примерно одинаковые. АХИЛЛ: Ну-ка постойте минутку… Черт побери! Вы что же, хотите сказать, что мой мозг по сути состоит из кучи муравьев, бегающих взад и вперед? МУРАВЬЕД: Ни в коем случае. Вы поняли меня слишком буквально. Самые низшие уровни этих систем могут быть совершенно различны. Скажем, мозг муравьедов вовсе не сделан из муравьев. Но когда вы поднимаетесь на несколько ступеней, элементы нового уровня имеют точное соответствие в других системах той же интеллектуальной мощи, таких, например, как муравьиная колония. ЧЕРЕПАХА: Именно поэтому имеет смысл, Ахилл, пытаться отобразить ваш мозг на муравьиную колонию, но не на мозг отдельных муравьев. АХИЛЛ: Благодарю за комплимент. Но как же возможно осуществить подобное отображение? Например, что в моем мозгу соответствует командам низших уровней, которые вы называете сигналами? МУРАВЬЕД: Я всего лишь любитель в области мозга и не могу описать для вас всех замечательных подробностей. Но — поправьте меня, если я ошибаюсь, м-р Краб — мне кажется, что мозговое соответствие сигналам муравьиных колоний — это действие нейрона; или, может быть, в более крупном масштабе, это схема действия нескольких нейронов. КРАБ: С этим я бы согласился. Конечно, найти точные отображения было бы желательно. Но не думаете ли вы, что для нашей дискуссии это не столь важно? Мне кажется, что главная идея здесь та, что такое соответствие в принципе существует, даже если мы пока еще точно не знаем, как его описать. Из всего, что вы сказали, д-р Муравьед, я не понимаю только одного: как мы можем быть уверены в том, что соответствие начинается именно на каком-то данном уровне? Вы, кажется, считаете, что сигналы имеют прямое соответствие в мозгу; однако мне думается, что соответствие должно существовать только на уровне ваших АКТИВНЫХ СИМВОЛОВ и выше. МУРАВЬЕД: Ваша интерпретация вполне может оказаться аккуратнее моей, м-р Краб. Благодарю за то, что вы подметили эту тонкость. АХИЛЛ: Что может сделать символ, чего не дано сделать сигналу? МУРАВЬЕД: Это что-то вроде разницы между словом и буквой. Слова — единицы смысла — состоят из букв, которые сами по себе лишены смысла. Это является хорошим примером, помогающим понять разницу между символом и сигналом. Надо только помнить, что буквы и слова ПАССИВНЫ, в то время как символы и сигналы АКТИВНЫ. АХИЛЛ: Боюсь, я не понимаю, почему так важна разница между активными и пассивными символами. МУРАВЬЕД: Дело в том, что значение, которое мы приписываем любому пассивному символу, например, слову на странице, в действительности восходит к значению, создаваемому соответствующими активными символами у нас в мозгу. Таким образом, значение пассивных символов можно понять полностью, только соотнеся его со значением активных символов. АХИЛЛ: Хорошо. Но что же придает значение СИМВОЛУ, если СИГНАЛ, сам по себе полноправная единица, лишен значения? МУРАВЬЕД: Дело в том, что одни символы могут вызвать к жизни другие символы. Когда какой-либо символ активизируется, он при этом не изолирован, а двигается в среде, характеризующейся определенной кастовой дистрибуцией. КРАБ: Разумеется, в мозгу нет никакой кастовой дистрибуции — ей соответствует “состояние мозга” — то есть состояние всех нейронов, все взаимосвязи между ними и порог, достигнув которого, нейрон активизируется. МУРАВЬЕД: Ну что ж, мы можем объединить “кастовую дистрибуцию” и “состояние мозга” под одним и тем же названием и именовать их просто “состоянием”. Состояние можно описать на низшем или на высшем уровне. Описанием состояния на низшем уровне в случае муравьиной колонии будет кропотливое определение положения каждого муравья, его возраста и касты, и тому подобная информация. Но такое подробное описание не проливало бы ни малейшего света на то, ПОЧЕМУ колония находится в данном состоянии. С другой стороны, описание на высшем уровне определяет, какие именно символы могут быть “пущены в ход”, какие комбинации других символов действуют при этом как пусковой механизм, при каких условиях это происходит, и так далее. АХИЛЛ: А как насчет описания на уровне сигналов или команд? МУРАВЬЕД: Описание на этом уровне располагалось бы где-то между низшим уровнем и уровнем символов. Оно содержало бы довольно много информации о том, что происходит в разных местах колонии, хотя и меньше, чем содержало бы описание всех муравьев в отдельности, поскольку команды состоят из нескольких муравьев. Описание на уровне команд — нечто вроде конспекта описания на уровне муравьев. Однако туда приходится добавить некоторые вещи, которых не было в описании отдельных муравьев — такие, как отношение между командами и наличие различных каст в разных районах. Это усложнение — та цена, которую мы платим за право давать суммированные описания. АХИЛЛ: Интересно сравнить достоинства описаний на разных уровнях. Описание на высшем уровне, по-видимому, обладает наибольшей способностью к объяснению явлений в колонии, поскольку оно дает наиболее интуитивную картину того, что в ней происходит, хотя, как ни странно, оставляет в стороне самое, казалось бы, важное — самих муравьев. МУРАВЬЕД: На самом деле, как ни странно, муравьи — не самое важное в колонии. Разумеется, если бы их не было, колония не существовала бы; но нечто эквивалентное ей, мозг, может существовать без единого муравья. Так что, по крайней мере с точки зрения высших уровней, можно вполне обойтись без муравьев. АХИЛЛ: Я уверен, что ни один муравей не поддержал бы эту теорию. МУРАВЬЕД: Мне еще не приходилось встречать муравья, который смотрел бы на свой муравейник с точки зрения высших уровней. КРАБ: Картинка, которую вы нарисовали, д-р Муравьед, противоречит здравому смыслу. Кажется, что, если вы правы, то чтобы понять структуру муравьиной колонии, приходится описывать ее, не упоминая об основных ее составляющих. МУРАВЬЕД: Может быть, вам станет яснее моя точка зрения на примере аналогии. Представьте себе, что перед вами — роман Диккенса. АХИЛЛ: Как насчет “Пиквикского клуба”. МУРАВЬЕД: Превосходно! Теперь вообразите следующую игру: вы должны отыскать соответствие между буквами и идеями так, чтобы каждой букве соответствовала какая-либо идея; таким образом, весь “Пиквикский клуб” имел бы смысл, если читать его буква за буквой. АХИЛЛ: Гм-м… Вы имеете в виду, что каждый раз, когда я вижу слово “что”, я должен думать о трех различных понятиях, одно за другим, и что при этом у меня нет никакого выбора? МУРАВЬЕД: Именно так. У вас будет “понятие “ч””, “понятие “т””, и “понятие “о””, и эти понятия остаются теми же на протяжении всей книги. АХИЛЛ: Тогда чтение “Пиквикского клуба” превратилось бы в неописуемо скучный кошмар. Это было бы упражнением в бессмысленности, какую бы идею я ни ассоциировал с каждой буквой. МУРАВЬЕД: Верно. Естественного отображения отдельных букв на реальный мир просто не существует. Это отображение происходит на высшем уровне — между словами и частями реального мира. Если вы хотите описать эту книгу, вы не должны делать это на уровне букв. АХИЛЛ: Разумеется, нет! Я буду описывать сюжет, героев и так далее. МУРАВЬЕД: Ну вот, видите! Вы не будете упоминать о минимальных кирпичиках, из которых построена книга, хотя она и существует благодаря им. Они являются способом передачи сообщения, а не самим сообщением. АХИЛЛ: Ну хорошо — а как насчет муравьиных колоний? МУРАВЬЕД: Здесь вместо пассивных букв у нас имеются активные сигналы, а вместо пассивных слов — активные символы; но в остальном идея остается та же. АХИЛЛ: Вы хотите сказать, что нельзя установить соответствия между сигналами и вещами реального мира? МУРАВЬЕД: Оказывается, это не удается сделать таким образом, чтобы активизирование новых сигналов имело бы смысл. Невозможно это и на низших уровнях — например, уровне муравьев. Только на уровне символов эти схемы активизирования имеют смысл. Вообразите, например, что в один прекрасный день вы наблюдаете за тем, чем занимается Мура Вейник, и в это время я тоже захожу в гости. Сколько бы вы ни смотрели, вряд ли вы увидите нечто большее, чем простое перераспределение муравьев. АХИЛЛ: Я уверен, что вы правы. МУРАВЬЕД: И тем не менее я, наблюдая за высшим уровнем вместо низшего уровня, увижу, как “просыпаются” несколько дремлющих символов, которые затем становятся мыслью: “А вот и очаровательный д-р Муравьед — какое удовольствие!” АХИЛЛ: Это напоминает мне, как мы нашли различные уровни на картинке “МУ” — по крайней мере, их увидели трое из нас… ЧЕРЕПАХА: Какое удивительное совпадение, что между странной картинкой, на которую я наткнулась в “Хорошо темперированном клавире”, и темой нашей беседы обнаружилось сходство. АХИЛЛ: Вы думаете, это просто совпадение? ЧЕРЕПАХА: Конечно. МУРАВЬЕД: Что ж, я надеюсь, теперь вы понимаете, каким образом в г-же М. Вейник зарождаются мысли при помощи манипуляции символами, составленными из сигналов, составленных из команд низшего уровня… — и так до самого низшего уровня — муравьев. АХИЛЛ: Почему вы называете это “манипуляцией символами”? Кто это делает, если сами символы активны? Что является этой действующей силой? МУРАВЬЕД: Это возвращает нас к вопросу о цели, который вы уже поднимали раньше. Вы правы, символы активны. Но тем не менее, их действия не совсем свободны. Действия всех символов строго определяются общим состоянием системы, в которой они находятся. Таким образом, все система ответственна за то, каким образом ее символы вызывают к жизни один другого; поэтому мы можем с полным правом сказать, что “действующая сила” — вся система. По мере того, как символы действуют, состояние системы медленно меняется, приходя в соответствие с новыми условиями. Однако многие черты остаются неизменными. Именно эта, частично меняющаяся и частично стабильная, система является действующей силой. Мы можем дать имя этой системе. Например, Мура Вейник — это та сила, которая манипулирует ее символами. И про вас, Ахилл, можно сказать то же самое. АХИЛЛ: Какое странное описание того, кто я такой. Не уверен, что полностью его понимаю… Я еще подумаю над этим. ЧЕРЕПАХА: Было бы очень интересно проследить за символами в вашем мозгу в тот момент, когда вы думаете о символах в вашем мозгу. АХИЛЛ: Это для меня слишком сложно. У меня хватает проблем, когда я пытаюсь представить себе, как можно смотреть на муравьиную колонию и “читать” ее на уровне символов. Я прекрасно понимаю, как можно воспринимать ее на уровне муравьев и, с небольшим усилием, пожалуй, могу понять, каким было бы восприятие колонии на уровне сигналов; но на что было бы похоже восприятие колонии на уровне символов? МУРАВЬЕД: Это умение достигается долгой практикой. Когда вы достигнете мастерства, подобного моему, вы сможете читать высший уровень муравьиной колонии с такой же легкостью, с какой прочли “МУ” на той картинке. АХИЛЛ: Правда? Это, должно быть, удивительное ощущение. МУРАВЬЕД: В каком-то смысле — но оно также хорошо знакомо и вам, Ахилл. АХИЛЛ: Знакомо мне? Что вы имеете в виду? Я никогда не рассматривал муравьиных колоний кроме как на уровне муравьев. МУРАВЬЕД: Может быть. Но муравьиные колонии во многих смыслах не слишком-то отличаются от мозга. АХИЛЛ: И мозгов никогда не видел и не читал! МУРАВЬЕД: А как же ВАШ СОБСТВЕННЫЙ мозг? Разве вы не замечаете своих собственных мыслей? Разве не в этом заключается эссенция сознания? Что же еще вы делаете, как не читаете ваш мозг прямо на уровне символов? АХИЛЛ: Никогда так об этом не думал. Вы хотите сказать, что я игнорирую все промежуточные уровни и вижу только самый высший? МУРАВЬЕД: Именно так функционируют сознательные системы. Они воспринимают себя только на уровне символов и понятия не имеют о низших уровнях, таких, как сигналы. АХИЛЛ: Значит ли это, что в мозгу есть активные символы, постоянно меняющиеся так, чтобы отразить состояние самого мозга в данный момент, оставаясь при этом всегда на уровне символов? МУРАВЬЕД: Безусловно. В любой разумной системе есть символы, представляющие состояние мозга, и сами они — часть именно того состояния, которое они символизируют. Поскольку сознание требует большого самосознания. АХИЛЛ: Очень странная идея. Значит, хотя в моем мозгу происходит бурная деятельность, я способен воспринять ее только на одном уровне — уровне символов; при этом я полностью нечувствителен к низшим уровням. Это похоже на чтение романов Диккенса при помощи прямого зрительного восприятия, при полном незнании букв. Не могу себе представить, чтобы такая странная штука на самом деле могла случиться. КРАБ: Но именно это и произошло, когда вы прочитали “МУ”, не замечая низших уровней, “ХОЛИЗМА” и “РЕДУКЦИОНИЗМА”. АХИЛЛ: Вы правы — я действительно упустил из вида низшие уровни и заметил только самый высший. Интересно, не пропускаю ли я какие-нибудь типы значения также и на низших уровнях моего мозга, когда “считываю” только уровень символов? Как жаль, что высший уровень не содержит всей информации о низших уровнях. Прочитав его, мы могли бы узнать также о том, что сообщается на низших уровнях. Но, полагаю, было бы наивно надеяться, что на вершине закодировано что-либо о низе — скорее всего, эта информация не просачивается наверх. Картинка “МУ”, пожалуй, самый выразительный пример: там на верхнем уровне написано только “МУ”, которое не имеет никакого отношения к уровням ниже! КРАБ: Совершенно верно. (Берет книгу, чтобы взглянуть на иллюстрацию поближе.) Гм-м-м… В самых маленьких буквах есть что-то странное; они какие-то дрожащие… МУРАВЬЕД: Дайте-ка взглянуть. (Подносит книгу к глазам.) Кажется, здесь есть еще один уровень, который мы все пропустили! ЧЕРЕПАХА: Говорите только за себя, д-р Муравьед. АХИЛЛ: Ох, не может быть! Можно мне посмотреть? (Пристально глядит на картинку.) Я знаю, что никто из вас в это не поверит, но значение этой картинки у нас прямо перед носом, только спрятанное у нее в глубине. Это всего-навсего одно слово, повторенное снова и снова, на манер мантры — но слово весьма важное: “МУ”! Вот видите! То же самое, что и на высшем уровне! И никто из нас об этом не догадывался! КРАБ: Мы бы никогда не заметили, Ахилл, если бы не вы. МУРАВЬЕД: Интересно, это совпадение между высшим и низшим уровнем случайно? Или это целенаправленный акт, кем-то совершенный? КРАБ: Как же мы это можем узнать? ЧЕРЕПАХА: Я не вижу, как это можно сделать — мы даже не знаем, почему эта иллюстрация оказалась у м-ра Краба в его издании “Хорошо темперированного клавира”. МУРАВЬЕД: Хотя мы и увлеклись интересной беседой, мне все же удалось следить краем уха за этой четырехголосной фугой, такой длинной и сложной. Она удивительно прекрасна. ЧЕРЕПАХА: Бесспорно; и вскоре вы услышите органный пункт. АХИЛЛ: Органный пункт? Это то, что происходит, когда музыкальная пьеса слегка замедляется, останавливается на минуту-другую на одной ноте или аккорде, и после короткой паузы продолжается в нормальном темпе? ЧЕРЕПАХА: Нет, вы путаете с “ферматой” — нечто вроде музыкальной точки с запятой. Вы заметили, что одна такая была в прелюдии? АХИЛЛ: Кажется, я ее пропустил. ЧЕРЕПАХА: Ничего, у вас еще будет случай услышать фермату — в конце этой фуги их целых две. АХИЛЛ: Отлично. Предупредите меня заранее, хорошо? ЧЕРЕПАХА: Если вам угодно. АХИЛЛ: Но скажите пожалуйста, что же такое органный пункт? ЧЕРЕПАХА: Это когда какая-то нота продолжается одним из голосов (чаще всего, самым низким) полифонической пьесы, пока другие голоса ведут свои независимые темы. Здесь органный пункт — нота ля. Слушайте внимательно! МУРАВЬЕД: Ваше предложение понаблюдать за символами в мозгу Ахилла, когда они думают о себе самих, напомнило мне один случай, который произошел со мной, когда я в очередной раз навещал мою старую знакомую, М. Вейник. КРАБ: Поделитесь с нами, пожалуйста. МУРАВЬЕД: Мура Вейник чувствовала себя в тот день очень одинокой и была рада с кем-нибудь поболтать. В благодарность она пригласила меня угоститься самыми сочными муравьями, которых я мог найти. (Она всегда очень великодушна, когда дело доходит до муравьев.) АХИЛЛ: Удивительно, кЛЯнусь честью! МУРАВЬЕД: В тот момент я как раз наблюдал за символами, образующими ее мысли, поскольку именно там заметил особенно аппетититных муравьишек. АХИЛЛ: Вы меня удивЛЯете! МУРАВЬЕД: Так что я отобрал себе самых толстых муравьев, бывших частью символа высшего уровня, который я в тот момент читал. Так случилось, что именно эти символы выражали мысль: “Не стесняйтесь, выбирайте муравьев потолще!” АХИЛЛ: О-ЛЯ-ЛЯ! МУРАВЬЕД: К несчастью для них, но к счастью для меня, букашечки и не подозревали о том, что они, все вместе, сообщали мне на уровне символов. АХИЛЛ: Несчастная доЛЯ… Какой удивительный оборот иногда принимают события. Они понятия не имели о том, в чем участвовали. Их действия были частью определенной схемы высшего уровня, но сами они об этом не подозревали. О, какая жалость — и какая ирония судьбы — что они пропустили это мимо ушей. КРАБ: Вы правы, г-жа Ч — это был прелестный органный пункт. МУРАВЬЕД: Я раньше ни одного не слыхал, но этот был настолько очевиден, что его невозможно было прослушать. Замечательно! АХИЛЛ: Что? Органный пункт уже был? Как же я мог его не заметить, если он был так очевиден? ЧЕРЕПАХА: Возможно, вы были так увлечены своим рассказом, что не обратили на него внимания. О, какая жалость — и какая ирония судьбы — что вы пропустили это мимо ушей. КРАБ: Скажите мне, а что, Мура Вейник живет в муравейнике? МУРАВЬЕД: О, ей принадлежит большой кусок земли. Раньше им владел кто-то другой — но это весьма грустная история. Так или иначе, ее владения довольно обширны. Она живет роскошно по сравнению со многими другими колониями. АХИЛЛ: Как же это совместить с коммунистической природой муравьиных колоний, которую вы нам раньше описали? Мне кажется, что проповедовать коммунизм, живя при этом в роскоши и изобилии, довольно непоследовательно! МУРАВЬЕД: Коммунизм там только на уровне муравьев. В муравьиной колонии все муравьи работают на общее благо, иногда даже себе в ущерб. Это — врожденное свойство М. Вейник, и, насколько я знаю, она может ничего не знать об этом внутреннем коммунизме. Большинство людей не знают ничего о своих нейронах; они, возможно, даже довольны тем, что ничего не знают о собственном мозге. Люди — весьма брезгливые создания! Мура Вейник тоже довольно брезглива — она начинает нервничать, стоит ей только подумать о муравьях. Так что она пытается этого избежать всегда, когда только возможно. Я, честное слово, сомневаюсь, что она догадывается о коммунистическом обществе, встроенном в саму ее структуру. Она сама — ярый приверженец полной свободы. Знаете, laissez-faire, и тому подобное. Так что я нахожу вполне естественным, что она живет в роскошном поместье. 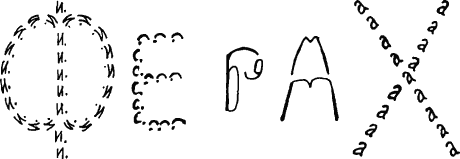 Рисунок автора (русский графический вариант выполнен переводчиком). ЧЕРЕПАХА: Я только что перевернула страницу, следя за этой прелестной фугой “Хорошо темперированного клавира,” и заметила, что приближается первая из двух фермат — приготовьтесь, Ахилл! АХИЛЛ: Я весь внимание. ЧЕРЕПАХА: На соседней странице здесь нарисована престранная картинка. КРАБ: Еще одна? Что там на этот раз? ЧЕРЕПАХА: Поглядите сами. (Передает ноты Крабу.) КРАБ: Ага! Да это всего лишь буквы. Посмотрим, что здесь есть… по нескольку штук “И”, “С”, “Б”, “м” и “а”. Как странно, первые три буквы растут, а последние две опять уменьшаются. МУРАВЬЕД: Можно мне взглянуть? КРАБ: Разумеется. МУРАВЬЕД: Рассматривая детали, вы совершенно упустили из виду главную картину. На самом деле, эти буквы — “ф”, “е”, “р”, “А”, “X” — и они вовсе не повторяются. Сначала они становятся меньше, а потом опять вырастают. Ахилл, а как ваше мнение? АХИЛЛ: Погодите минутку. Гм-м… Я вижу несколько заглавных букв, которые увеличиваются слева направо. ЧЕРЕПАХА: Это какое-то слово? АХИЛЛ: Э-э-э… “И. С. Бах” О! Теперь я понимаю. Это имя Баха! ЧЕРЕПАХА: Как странно, что вы видите это именно так. Мне кажется, это несколько прописных букв, уменьшающихся слева направо, и составляющих … имя … (Темп ее речи все замедляется, особенно на последних словах; потом она останавливается на мгновение, и вдруг начинает говорить снова, будто ничего необычного не произошло.) — “фермата”. АХИЛЛ: Вы, видно, все никак не можете выбросить из головы Ферма. Вы видите Последнюю Теорему Ферма даже здесь. МУРАВЬЕД: Вы были правы, г-жа Черепаха: я только что заметил премилую маленькую фермату в фуге. КРАБ: И я тоже! АХИЛЛ: Вы говорите, что все это слышали, кроме меня? Я начинаю чувствовать себя совсем дураком. ЧЕРЕПАХА: Ну что вы, Ахилл, не надо так говорить. Я уверен, что вы не пропустите Последнюю Фермату Фуги — она прозвучит очень скоро. Но, д-р Муравьед, возвращаясь к нашему разговору, что это за печальная история, о которой вы упомянули, говоря о прежнем владельце поместья М. Вейник? МУРАВЬЕД: Прежний его владелец был удивительной личностью, одной из самых творчески одаренных муравьиных колоний, которые когда-либо существовали. Его звали Иогей Себастей Фермовей; он был мураматиком по профессии, но мурзыкантом по призванию. АХИЛЛ: Муравительно! МУРАВЬЕД: Он был в расцвете творческих сил, когда его постигла безвременная кончина. Однажды, жарким летним днем, он грелся на солнышке. Вдруг с ясного неба грянула гроза, одна из тех, что бывают раз в сто лет. И. С. Ф. промок до последнего муравья. Гроза началась совершенно неожиданно и застала муравьев врасплох. Сложная структура, создававшаяся годами, погибла за какие-то минуты. Какая трагедия! АХИЛЛ: Вы хотите сказать, что все муравьи утонули, и это было концом И. С. Ф.? МУРАВЬЕД: Нет, не совсем. Муравьям удалось выжить: все они уцепились за травинки и щепки, крутящиеся в бешеных потоках. Но когда вода спала и оставила муравьев на их территории, там не оставалось никакой организации. Кастовая дистрибуция была совершенно разрушена, и муравьи оказались не способны своими силами восстановить прежнюю отлаженную структуру. Они были так же беспомощны, как кусочки Шалтая-Болтая, если бы те попытались собрать себя самих. Подобно всей королевской коннице и всей королевской рати, я пытался собрать бедного Фермовея. Я подкладывал сахар и сыр, в сумасшедшей надежде на то, что Фермовей появится опять… (Вынимает носовой платок, вытирает глаза и сморкается.) АХИЛЛ: Как великодушно с вашей стороны. Я и не знал, что у Муравьедов такое доброе сердце… МУРАВЬЕД: Но все мои усилия были бесполезны. Он ушел из жизни, и ничто не могло вызвать его обратно. Однако тут начало происходить что-то странное: в течение следующих месяцев муравьи, бывшие компонентами И. С. Ф., перегруппировались и сформировали новую организацию. Так родилась Мура Вейник. КРАБ: Потрясающе! Мура Вейник состоит из тех же муравьев, что прежде И. С. Ф.? МУРАВЬЕД: Сначала так и было, но теперь некоторые старые муравьи умерли и были заменены новыми муравьями. Однако там все еще остаются муравьи эпохи И. С. Ф. КРАБ: Скажите, а проявляются ли время от времени черты старика И. С. Ф. в мадам М. Вейник? МУРАВЬЕД: Ни одной. У них нет ничего общего. И я не вижу, откуда бы тут взяться сходству. В конце концов, есть несколько различных способов перегруппировать отдельные части, чтобы получить их “сумму”. Мура Вейник как раз и была новой суммой старых частей. Не БОЛЬШЕ суммы, заметьте — просто определенный ТИП суммы. ЧЕРЕПАХА: Кстати о суммах — это мне напомнило теорию чисел. Там тоже бывает возможно разложить теорему на составляющие ее символы, расположить их в новом порядке и получить новую теорему. МУРАВЬЕД: Никогда об этом не слышал; хотя должен признаться, что в этой области я полнейший невежда. АХИЛЛ: Я тоже в первый раз слышу — а ведь я прекрасно осведомлен в этой области, хотя и не должен сам себя хвалить. Думаю, что г-жа Ч готовит один из своих сложных розыгрышей — я ее уже хорошо изучил. МУРАВЬЕД: Кстати о теории чисел — это мне напомнило опять об И. С. Ф. Как раз в этой области он прекрасно разбирался. Теория чисел обязана ему несколькими важными открытиями. А Мура Вейник, наоборот, удивительно несообразительна, когда речь заходит о чем-то, имеющем даже отдаленнейшее отношение к математике. К тому же, у нее довольно банальные вкусы в музыке, в то время как Себастей был необычайно одарен в этой области. АХИЛЛ: Мне очень нравится теория чисел. Не расскажете ли вы нам о каком-нибудь из открытий Себастея? МУРАВЬЕД: Отлично. (Делает паузу, чтобы отхлебнуть свой чай, и снова начинает.) Слышали ли вы о печально известной “Хорошо Проверенной Гипотезе” Фурми? АХИЛЛ: Не уверен. Это звучит знакомо, но я не могу вспомнить, что это такое. МУРАВЬЕД: Идея очень проста. Француз Льер де Фурми, мураматик по призванию, но адвокей по профессии, читая классическую “Арифметику” Диофантея, наткнулся на страницу с уравнением
Он тут же понял, что это уравнение имеет бесконечное множество решений a, b и c, и записал на полях следующий замечательный комментарий:
С того года и в течение почти трехсот дней мураматики безуспешно пытаются сделать одно из двух: либо доказать утверждение Фурми и таким образом очистить его репутацию — в последнее время она слегка подпорчена скептиками, не верящими, что он действительно нашел доказательство — или опровергнуть его утверждение, найдя контрпример: множество четырех целых чисел a, b, c и n, где n > 2, которое удовлетворяло бы этому уравнению. До недавнего времени все попытки в любом из этих двух направлений проваливались. Точнее, Гипотеза доказана лишь для определенных значений n — в частности, для всех n до 125 000. Но никому не удавалось доказать ее для ВСЕХ n — никому, пока на сцене не появился Иогей Себастей Фермовей. Именно он нашел доказательство, очистившее репутацию Фурми. Теперь это известно под именем “Хорошо Проверенной Гипотезы Иогея Себастея Фермовея”. АХИЛЛ: Не лучше ли тогда называть это “Теоремой” вместо “Гипотезы, поскольку настоящее доказательство уже найдено? МУРАВЬЕД: Строго говоря, вы правы, но по традиции это зовется именно так. ЧЕРЕПАХА: А какую музыку писал Себастей? МУРАВЬЕД: Он был очень талантливым композитором. К несчастью, его лучшее сочинение покрыто тайной, поскольку оно никогда не было опубликовано. Некоторые думают, что Себастей держал свое сочинение в голове. Но те, кто настроены менее благожелательно, говорят, что на самом деле он никогда не писал подобного сочинения, а только хвастался направо и налево. АХИЛЛ: И что же это было за великое сочинение? МУРАВЬЕД: Это должно было быть гигантской прелюдией и фугой; в фуге Предполагалось двадцать четыре голоса и двадцать четыре различных темы, по одной в каждой мажорной и минорной тональности.  Когда происходят перемещения колоний, муравьи иногда строят из собственных тел живые мосты. На этой фотографии (Льера Фурми) изображен подобный мост. Муравьи-работники колонии Eciton Burchelli сцепляются лапками и тарзальными челюстями; таким образом создается что-то вроде цепей. Видно, как по центру моста переходит симбиотическая чешуйница, Trichatelura manni. (Е. О. Вильсон, “Общества насекомых”, стр. 62.) АХИЛЛ: Было бы весьма трудно слушать такую двадцатичетырехголосную фугу как целое! КРАБ: Уже не говоря о том, чтобы ее сочинить! МУРАВЬЕД: Все, что нам о ней известно, это ее описание, оставленное Себастеем на полях его экземпляра “Прелюдий и фуг для органа” Букстехуде. Последними словами, которые он написал перед своей трагической кончиной, были следующие:
Этот несостоявшийся шедевр известен под именем “Последняя Фуга Фермовея”. АХИЛЛ: О, как это невыносимо трагично! ЧЕРЕПАХА: Кстати о фугах: та фуга, которую мы слушаем, скоро закончится. Ближе к концу в ее теме происходит странная вариация. (Переворачивает страницу “Хорошо темперированного клавира”.) Что это у нас тут? Еще одна иллюстрация, да какая интересная! (Показывает ее Крабу.) 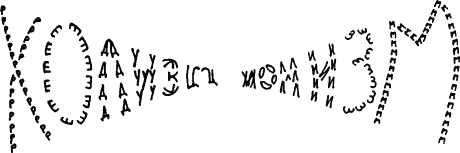 Рисунок автора (русский графический вариант выполнен переводчиком). КРАБ: Что это у нас тут? О, вижу: это “ХОЛИЗМИОНИЗМ”, написанное большими буквами, которые сначала уменьшаются, а затем снова возрастают до того же размера. Но в этом нет никакого смысла, поскольку это не настоящее слово. Надо же, подумать только! (Передает ноты Муравьеду.) МУРАВЬЕД: Что это у нас тут? О, вижу: это “РЕДУКЦХОЛИЗМ”, написанное маленькими буквами, которые сначала увеличиваются, а затем снова уменьшаются до того же размера. Но в этом нет никакого смысла, поскольку это не настоящее слово. Подумать только, надо же! (Передает ноты Ахиллу.) АХИЛЛ: Я знаю, что никто из вас в это не поверит, но на деле эта картинка состоит из слова “ХОЛИЗМ”, написанного дважды, причем буквы в нем уменьшаются слева направо. ЧЕРЕПАХА: Я знаю, что никто из вас в это не поверит, но на деле эта картинка состоит из слова “РЕДУКЦИОНИЗМ”, написанного один раз, причем буквы в нем увеличиваются слева направо. АХИЛЛ: Наконец-то! На этот раз я услышал новую вариацию темы! Я так рад, что вы мне на нее указали, г-жа Черепаха. Мне кажется, что я наконец начинаю понимать кое-что в искусстве слушания фуг. Размышления Больше ли целое суммы составляющих его частей? Участники предыдущего диалога, по-видимому, имеют на этот счет разные мнения. Однако все они согласны в одном: коллективное поведение системы индивидуумов может иметь многие удивительные свойства. Некоторым читателям этот диалог напоминает о поведении стран — оно кажется целеустремленным, эгоистическим и направленным на выживание; оно каким-то образом возникает из привычек и обычаев граждан данной страны, из их системы образования, юридических установлений, религии, ресурсов, стиля потребления и уровня запросов и так далее. Когда из различных особей формируется жесткая организация, несводимая к вкладам отдельных особей на низших уровнях, мы рассматриваем подобную структуру как индивида высшего уровня, которого часто очеловечиваем. В одной газетной статье о террористической группе было написано, что та “играет, держа свои карты слишком близко к груди”. О России часто говорят, что она “желает” добиться мирового признания своей мощи, поскольку “страдает” от “застарелого комплекса неполноценности” по отношению к Западной Европе. Хотя это не более, чем метафоры, они показывают, насколько сильно в нас стремление очеловечивать организации. У индивидов, составляющих организацию — рабочих, секретарш, шоферов автобусов, управляющих и т.д. — есть свои цели в жизни, цели, которые, как кажется, должны быть в конфликте со структурой высшего уровня, частями которой они являются. Однако существует эффект, могущий показаться предательским и зловещим многим, изучающим политологию. Он состоит в том, что организация ассимилирует и эксплуатирует именно эти цели, используя гордость, необходимость самоуважения и так далее, для получения собственной выгоды. Таким образом из многих целей низших уровней возникает единый импульс, включающий их в себя, и именно этот импульс самосохраняется. Поэтому Черепаха говорила не такие уж глупые вещи, когда возражала против попытки Ахилла сравнить себя с муравьем, и утверждала, что предпочтительнее для него было бы сравнивать себя, на определенном уровне, со всей муравьиной колонией, с муравейником. В этом же смысле мы можем иногда спрашивать себя: “На что похоже быть Китаем? Насколько бы отличалось от этого быть Соединенными Штатами?” Имеют ли какой-либо смысл подобные вопросы? Подробнее мы обсудим это в “Размышлениях” о статье Нагеля о летучих мышах (см. Главу 24). Тем не менее, давайте уже сейчас подумаем, есть ли какой-нибудь смысл “сравнивать” себя с целой страной? Есть ли у страны мысли или убеждения? Все сводится к тому, есть ли у страны некий символический уровень, подобный тому символическому уровню, который имеет Мура Вейник. Вместо того, чтобы говорить, что система “имеет символический уровень”, мы могли бы сказать: “это репрезентативная система”. Концепция “репрезентативной” системы — основная мысль этой книги и нуждается в более или менее точном определении. Под “репрезентативной системой” мы подразумеваем активный, самоактуализирующийся набор структур, организованный так, что он “отражает” мир в его эволюции. Таким образом, картина, как бы хорошо она ни отражала мир, репрезентативной системой не является, поскольку она статична. Интересно, что мы исключаем отсюда и зеркала, хотя отражения в них “идут в ногу” с окружающим. Зеркалам не хватает двух характеристик. Во-первых, само зеркало не делает различий между отражениями различных объектов — оно отражает, но не видит категорий. На самом деле, отражение в зеркале едино, и только в наших глазах распадается на “отдельные” образы многих различных предметов. Нельзя сказать, что зеркало воспринимает — оно лишь отражает. Во-вторых, образ в зеркале не является автономной системой, ведущей собственную “жизнь” — он прямо зависит от окружающего мира. Если выключить свет, он исчезнет. Репрезентативная система должна быть способна продолжать функционировать, даже если прекращен контакт с реальностью, которую она “отражает”, хотя теперь вы видите, что “отражение” — недостаточно точная метафора. Изолированные репрезентативные структуры должны продолжать изменяться таким образом, который отражает возможную эволюцию мира. В действительности, хорошая репрезентативная система разовьет параллельные ветви для различных возможностей, которые можно предусмотреть с разумной долей вероятности. Ее внутренние модели окажутся, в метафорическом смысле, определенном в “Размышлениях” о “Новом открытии разума”, в положении наложения собственных состояний, каждое из которых имеет собственную субъективную оценку вероятности. Таким образом, вкратце можно сказать, что репрезентативная система построена на категориях; она сортирует входящие данные по различным категориям, с необходимостью уточняя или расширяя информационную сеть внутренних категорий. Ее представления или “символы” взаимодействуют между собой согласно некой внутренней логике; эта логика, хотя и действует, никогда не консультируясь с внешним миром, тем не менее создает модель этого мира, достаточно верную для того, чтобы символы более или менее совпадали с тем, что они отражают. Телевизор — это не репрезентативная система, поскольку он безо всякого различия бомбардирует экран точками, не обращая внимания на то, что они представляют. Структуры на экране не автономны — они пассивные копии объектов “там, снаружи”. С другой стороны, компьютерная программа, которая может “посмотреть” на некую сцену и сказать, какие объекты она “видит”, находится ближе к репрезентативной системе. Самые современные труды в области искусственного разума, посвященные компьютерному зрению, еще не раскусили этого твердого орешка. Программа, которая может посмотреть на некую сцену и не только сказать, какие объекты перед ней находятся, но и определить, что вызвало эту сцену к жизни и как события могут развиваться дальше, была бы, согласно нашему определению, настоящей репрезентативной системой. В этом смысле является ли страна репрезентативной системой? Есть ли у нее уровень символов? Мы предлагаем вам подумать над этим вопросом. Одно из основных понятий “Муравьиной фуги” — это “дистрибуция каст” или “состояние”, поскольку мы считаем, что именно это определяет будущее организма. Кажется, что это противоречит идее о том, что поведение системы определяется законами низших уровней — муравьев или нейронов в случае муравейников или мозга, но в любом случае, неких частиц. Существует ли также причинность, “направленная вниз” — иными словами, может ли мысль повлиять на путь электрона? В книге Уильяма Кальвина и Джорджа Оджеманна “Внутри мозга” есть провокационная серия вопросов о нейронном возбуждении. “Отчего оно начинается?” — спрашивают они. Что заставляет натриевые каналы открываться? (Функция натриевых каналов в том, чтобы пропустить ионы натрия внутрь нейрона; когда их концентрация достаточно высока, выделяются нейротрансмиттеры, чье движение от одного нейрона к другому и является сутью нейронного возбуждения.) Ответ заключается в том, что натриевые каналы чувствительны к изменению электрического потенциала, и они только что получили достаточно сильный электрический шок, заставивший их изменить состояние с закрытого на открытое. “Но что изначально заставляет напряжение возрастать до того, как оно достигает критического уровня и дает начало серии событий под названием “нейронный импульс”?” — продолжают они. Ответ на этот вопрос таков: несколько “узлов”, расположенных вдоль аксона данного нейрона, просто передают это высокое напряжение от одной “станции” к другой. Таким образом, вопрос снова трансформируется. На этот раз они спрашивают: “Но от чего случается самый первый импульс в самом первом узле? Откуда происходит то, самое первое изменение напряжения? Что предшествует первому импульсу?” Для большинства нейронов внутри мозга (так сказать, интернейронов, то есть нейронов, вместо прямого сообщения от органов чувств получающих сообщения от других нейронов) ответ заключается в том, что первое изменение напряжения вызвано общим эффектом от импульсов нейротрансмиттеров, идущих от остальных нейронов. (Мы могли бы называть эти нейроны движущимися против течения, но из этого следовало бы ложное заключение о том, что движение нейронной деятельности в мозгу следует по единственному линейному направлению, вроде некой реки. На самом деле пути нейронной активности, как правило, далеки от линейных; они зачастую напоминают петли и совершенно не походят на реки.) Итак, кажется, что мы попали в заколдованный круг и имеем дело с загадкой наподобие курица-яйцо. Вопрос: “Чем вызывается нейронное возбуждение?” Ответ: “Возбуждением других нейронов.” При этом остается без ответа основной вопрос: “Почему именно эти нейроны? Почему не другой порочный круг, не нейронная петля в каком-либо ином месте мозга?” Чтобы ответить на этот вопрос, мы должны переместиться на другой уровень и поговорить об отношении мозга к закодированным в нем идеям. Это, в свою очередь, потребует от нас разговора о том, каким образом мозг кодирует или представляет окружающий мир. Поскольку в этой книге мы не собираемся вдаваться в подобные детали, мы обсудим родственные, но более простые идеи. Вообразите себе длинную, раздваивающуюся и снова сходящуюся цепь, построенную из костяшек домино. Предположим, что снизу под каждой костяшкой имеется пружинка замедленного действия, снова поднимающая костяшку через пять секунд после падения. Установив определенную систему костяшек домино, можно “запрограммировать” систему так, что она будет совершать действия с цифрами, как настоящий компьютер. Разные “дорожки” будут соответствовать разным вычислениям; здесь возможно установить сложные разветвляющиеся петли. (Обратите внимание, что этот образ не так уж далек от образа нейронных сетей мозга.) Можно представить себе программу, пытающуюся разложить на множители число 641. Вы можете спросить, показывая на определенную костяшку, за которой давно наблюдаете: “Почему эта костяшка не падает?” На одном уровне на этом вопрос можно ответить: “Потому что не падает ее предшественница”. Однако это “объяснение” низкого уровня в действительности ничего не объясняет. Ответ, который нам нужен, единственный удовлетворительный ответ, должен быть дан на концептуальном уровне программы: “Она никогда не падает, потому что находится в цепочке домино, которая активизируется только тогда, когда найден множитель. Но у числа 641 нет множителей — это простое число. Таким образом, физические законы или цепочки домино здесь на самом деле ни при чем — костяшка не падает, потому что 641 — простое число”. Значит ли это, что мы соглашаемся с тем, что система действительно управляется законами высшего уровня, действующими “через голову” законов нижнего уровня? Нет. Дело в том, что любое имеющее смысл объяснение требует идей высшего уровня. Разумеется, костяшки домино не знают, что они являются частью программы — им и не нужно этого знать, так же, как клавишам пианино не нужно знать, какую пьесу на них исполняют. Подумайте, как странно было бы, если бы они это знали! Так же и ваши нейроны не знают, в обдумывании каких идей они принимает участие в данный момент, и не имеют понятия о схеме их колонии на высшем уровне. У вас может возникнуть и другой вопрос: “Какие законы какого уровня отвечают за существование программы и цепей костяшек домино — и более того, за изготовление самих костяшек?” В поисках ответа на этот и многие родственные ему вопросы нам придется совершить путешествие в далекое прошлое, к истокам существования общества и дальше, к истокам самой жизни. Лучше пока отложить подобные вопросы и принять за объяснение простоту числа 641. Мы предпочитаем это краткое объяснение высшего уровня, поскольку оно избавляет нас от необходимости путешествий во времени и концентрируется на настоящем или вневременном аспектах. Но если мы хотим найти первопричины событий, нам с необходимостью придется принять редукционистские взгляды, изложенные Доукинзом или Черепахой. В конце концов, нам придется обратиться к физикам, которые пошлют нас к Большому Взрыву как к первопричине всего сущего. Однако этот ответ не может нас удовлетворить, поскольку нам нужны объяснения на уровне идей, более знакомых человеку. К счастью, природа достаточно стратифицирована, чтобы позволить подобное. Ранее мы спрашивали, может ли мысль изменить маршрут движущегося электрона. Читателю может прийти в голову картина, которую мы не имели в виду: сосредоточенный “экстрасенс”, нахмурившись, посылает “волны плутоновой энергии” (как бы он их ни называл) по направлению какого-то объекта — например, вертящегося игрального кубика — и пытается повлиять на то, как выпадут очки. Мы не верим ни во что подобное. Мы не верим в еще не открытый “мысленный магнетизм”, благодаря которому идеи могут влиять на пути частиц, путем некого “синтаксического потенциала” заставляя их двигаться иначе, чем определяют физические законы. Мы говорим о чем-то другом. Наш вопрос относится скорее к тому, откуда берутся объяснительные возможности. Может быть, этот вопрос относится к тому, как правильно использовать слова, как примирить повседневное употребление таких слов как “причина” с их научным, терминологическим использованием. Таким образом, имеет ли смысл объяснять движения частиц в терминах высшего уровня, таких, как “убеждения”, “желания” и т.п.? Читатель может заметить, что мы находим эту точку зрения довольно полезной. Нам кажется, что так же, как эволюционные биологи чувствуют себя вправе использовать “телеологическую скоропись” чтобы упростить их идеи до уровня интуитивно понимаемых, люди, изучающие механизмы мышления, с необходимостью научатся легко переходить с чисто редукционистского языка на язык “холистский”, в котором целое оказывает заметное влияние на части и, таким образом, на самом деле обладает “направленной вниз каузальностью”. В физике, когда смещается точка зрения, иногда кажется, что изменились и законы. Представьте себе аттракцион в парке развлечений, где люди стоят у внутренней стенки большого цилиндра. Цилиндр начинает вращаться, и вдруг его пол проваливается, словно великан вскрыл гигантскую консервную банку своим ножом. Люди продолжают вращаться; их спины плотно прижаты к стенкам цилиндра, благодаря центробежной силе. Если бы вы были одним из них и попытались бы бросить теннисный мяч человеку напротив, вы увидели бы, что мяч полетит по сумасшедшей траектории и, может быть, даже вернется к вам, подобно бумерангу. Это может случиться потому, что в то же самое время, как мяч летит к противоположной стенке цилиндра, цилиндр совершает пол-оборота. Однако, если бы вы не знали о том, что находитесь во вращающемся цилиндре, вы могли бы придумать название для странной силы, заставляющей ваш мяч отклоняться от цели. Вы можете подумать, что это какой-то странный вариант гравитации. Эту гипотезу подтвердило бы наблюдение, что данная сила действует одинаково на любые два объекта с одинаковой массой, в точности как действует гравитация. Удивительно то, что именно это простое наблюдение — что “фиктивные силы” легко спутать с гравитацией — лежит в центре великой теории относительности Эйнштейна. Смысл этого примера в том, что смена точки зрения может повлечь за собой изменение восприятия и понятий, изменение в способах видеть причины и следствия. Если этого было достаточно для Эйнштейна, этого и подавно должно быть достаточно для нас! Мы не будем затруднять читателя дальнейшими описаниями сложных изменений точки зрения при переходах туда и обратно между целым и его частями. Вместо этого мы предложим ему некую легко запоминающуюся терминологию в надежде на то, что она может заставить читателя задуматься об этих вопросах. Мы сравнивали “редукционизм” и “холизм”. Теперь вы можете заметить, что синонимом редукционизма является “каузальность, направленная снизу вверх”, а синонимом холизма — “каузальность, направленная сверху вниз” Эти понятия связаны с тем, как события на разномасштабных уровнях в пространстве определяют друг друга. Существуют и соответствующие понятия для временнОй шкалы: редукционизму соответствует идея предсказания будущего на основании прошлых данных, не учитывая “целей” организмов. Холизму соответствует идея о том, что так можно предсказать будущее лишь для неодушевленных объектов; в случае же одушевленных организмов их действия определяются в основном их целями, намерениями и желаниями. Этот взгляд, часто называемый “целенаправленным” или “телеологическим”, может с тем же успехом называться “целизм”, а его противоположность — “предсказанионизм”. Подобный предсказанионизм появляется, как временнОе соответствие редукционизму, а целизм — как временнОе соответствие холизму. Предсказанионизм — доктрина, утверждающая, что только события, направленные “против течения” (и никакие из событий, направленных “по течению”), должны учитываться при определении будущего, вытекающего из настоящего. Его противоположность, целизм, рассматривает одушевленные объекты как направленные к определенным целям в будущем; таким образом, в этой доктрине считается, что будущие события в каком-то смысле являются причиной событий прошлых. Мы можем назвать это “ретроактивной каузальностью”. Это временнОе соответствие холистской “интроактивной каузальности”, где причины рассматриваются как двигающиеся “внутрь”, от целого к его частям. Если взять целизм и холизм вместе, вы получите соулизм (от англ. “soul” — душа). Предсказанионизм и редукционизм, взятые вместе, дают механицизм. Мы можем подвести итоги в виде маленькой таблицы. ——————————— “Твердая” наука // “Мягкая” наука ——————————— Редукционизм // Холизм (каузальность снизу вверх) // (каузальность сверху вниз) + // + Предсказанионизм // Целизм (каузальность против течения) // (каузальность по течению) Механицизм // Соулизм ——————————— Теперь, когда мы удовлетворили нашу страсть к каламбурам, давайте пойдем дальше. Новую перспективу предлагает нам еще одна метафора о мозговой деятельности: “думающая эолова арфа”. Представьте себе сложную систему полых трубочек в виде подвижной абстрактной скульптуры. Стеклянные трубочки-“колокольчики” свисают, как листья с веток, меньшие веточки свисают с бОльших и так далее. Когда ветер трогает этот “мобайл”, многие колокольчики начинают двигаться и постепенно вся структура меняется на всех уровнях. Ясно, что не только ветер, но и состояние системы определяют то, как движутся маленькие колокольчики. Даже если бы качался единственный колокольчик, закрученность его веревочки влияла бы на движение нашего “мобайла” так же, как и ветер. Так же, как люди действуют “по собственной воле”, похоже, что система колокольчиков “имеет собственную волю”. Что такое воля? Сложная внутренняя конфигурация, сложившаяся исторически и кодирующая тенденции, направленные к некоторым будущим внутренним конфигурациям от других таких конфигураций. Это свойство присутствует даже в самой простой системе колокольчиков. Но справедливо ли это? Есть ли у этой системы желания? Может ли она думать? Давайте пофантазируем, добавляя нашей системе новые черты. Представьте себе, что рядом с ней находится вентилятор, дистанционно контролируемый углом наклона одной из ветвей системы. Скорость вращения лопастей контролируется углом наклона другой ветви. Теперь у системы появился некоторый контроль над окружающим миром, словно у нее есть большие руки, управляемые группами крохотных и незначительных на вид нейронов. Наша система теперь играет бОльшую роль в определении собственного будущего. Давайте пойдем еще дальше и предположим, что каждая веточка контролирует свой собственный вентилятор. Теперь, когда дует ветер (природный или вентиляторный), группа колокольчиков приходит в движение и постепенно сообщает движение другим частям системы. Колокольчики звенят, ветви качаются в воздухе, система приходит в новое состояние, которое, в свою очередь, определяет, куда будут направлены вентиляторы и как быстро они будут крутиться — что снова изменит состояние системы. Теперь ветер и состояние системы находятся в сложной взаимосвязи — такой сложной, что их стало почти невозможно концептуально разделить между собой. Представьте себе две системы колокольчиков в одной комнате. Каждая из них влияет на соседку, посылая в ее сторону порывы ветра. Кто может утверждать, что имеет смысл разделять эту систему на две части? Может быть, лучше всего рассматривать всю систему в терминах ветвей высшего уровня; тогда в каждой из эоловых арф может оказаться пять или десять естественных частей. Однако возможно, что лучше всего смотреть на ветви уровнем ниже, в каковом случае мы получим уже десять или больше частей в каждой арфе… Мы выбираем ту точку зрения, которая нам больше подходит. В каком-то смысле каждая из частей взаимодействует со всеми остальными, но, может быть, какие-то две части возможно отделить по пространственному критерию или по их определенной организации — например, некоторые типы звуков могут оказаться локализованы в определенном районе. В этом случае мы сможем говорить о различных “организмах”. Однако обратите внимание на то, что вся система все еще объяснима в терминах физических законов. Теперь мы можем вообразить механическую руку, движения которой контролируются углами, скажем, двух десятков ветвей высшего уровня. Разумеется, эти ветви тесно связаны с состоянием остальной системы. Мы можем вообразить, что состояние системы определяет движения руки необычным образом — а именно, говорит руке, какую шахматную фигуру поднять с доски и куда ее поставить. Не правда ли, было бы чудесным совпадением, если бы рука всегда ходила по правилам? И не было бы еще более чудесным совпадением, если бы она всегда делала хорошие ходы? Вряд ли. Если бы такое случилось, это произошло бы именно потому, что не было бы случайностью. Это объяснялось бы тем, что у системы колокольчиков есть репрезентативная мощь. Теперь мы еще раз отвлечемся от попыток в точности описать, как могут сохраняться идеи в этой странной звенящей системе, напоминающей дрожащую осину. Моя цель состояла в том, чтобы создать у читателя образ тонкости, сложности и самоуглубленности системы, которая реагирует на внешние стимулы и на состояние разных уровней своей внутренней конфигурации. Почти невозможно отличить ответы такой системы на окружающий мир от ее ответов на состояние собственных частей, поскольку малейшая внешняя пертурбация порождает мириады крохотных взаимосвязанных событий, нарастающих лавинообразно. Если думать об этом как о “восприятии” системой входных данных, ясно, что ее собственное состояние воспринимается системой так же. Самовосприятие здесь неотличимо от восприятия. Существование более высокого уровня рассмотрения подобной системы — отнюдь не неизбежное заключение. Нет никакой гарантии, что нам удастся расшифровать состояние системы, получив набор английских фраз, выражающих убеждения этой системы и включающие правила шахматной игры (и стратегию, позволяющую играть хорошо). Однако, когда подобные системы эволюционируют путем естественного отбора, обязательно будет какая-то причина того, что некоторые выживают, а некоторые — нет: это осмысленная внутренняя организация, позволяющая системе использовать окружающий мир и, по крайней мере частично, его контролировать. В эоловой арфе, в предположительно разумной колонии муравьев и в мозге эта организация стратифицирована. Уровни в системе колокольчиков соответствуют разным уровням ветвей, свисающих с других ветвей. Пространственное расположение верхних ветвей представляет наиболее компактное и абстрактное описание общих особенностей состояния системы. Положение многих тысяч (или миллионов?) дрожащих индивидуальных звоночков дает нам несуммированное, интуитивное, но конкретное и локальное описание состояния системы. В муравейнике мы имели дело с муравьями, командами, сигналами на разных уровнях и, наконец, с дистрибуцией каст или “состоянием колонии” — снова самым точным, но абстрактным взглядом на колонию. Ахилл удивлялся, что этот уровень настолько абстрактен, что муравьи не упоминаются в нем вообще! Мы не знаем, как найти структуры высшего уровня, которые предоставят нам отчет по-английски о наших убеждениях, записанных в мозгу. Впрочем, на самом деле мы это знаем — мы просто спрашиваем хозяина или хозяйку мозга об их убеждениях! Но мы не умеем определять, где и как эти убеждения закодированы физически.” В наших трех системах существуют полуавтоматические подсистемы, каждая из которых представляет какое-либо понятие. Разные стимулы могут активизировать различные понятия, или символы. Заметьте, что в этой картине отсутствует “глаз разума”, наблюдающий за деятельностью системы и “чувствующий” ее; вместо этого чувства представлены самим состоянием системы. У пресловутого “маленького человечка”, который должен бы играть эту роль, “внутренний глаз” должен бы быть еще меньше — и это привело бы нас к бесконечной цепи человечков, мал мала меньше, со все меньшими внутренними глазками — короче, к бесконечному регрессу самого вредного и глупого типа. Напротив, в нашей системе самосознание рождается в результате сложным образом соотносящихся между собой ответов на внешние и внутренние стимулы. Этот тип схемы иллюстрирует общую идею: “Разум — эта схема, воспринимаемая разумом”. Может быть, это логический круг, но круг не порочный и не парадоксальный. Ближе всего к “маленькому человечку” или “глазу разума” воспринимающему деятельность мозга, мы подходим в само-символе — сложной подсистеме, являющейся моделью всей системы целиком. Но само-символ не воспринимает окружающее при помощи собственного репертуара крохотных символов (включающего собственный символ — явное приглашение к бесконечному регрессу!). Скорее, совместная активация с обычными (нерефлексивными) символами и составляет восприятие системы. Восприятие находится на уровне всей системы, а не на уровне само-символа. Если вы хотите сказать, что само-символ что-либо воспринимает, это может быть верно только в том смысле, в каком самец ночной бабочки воспринимает свою самку, или в том смысле, в каком ваш мозг воспринимает ваш сердечный ритм — на уровне микроскопических межклеточных химических сообщений. Последнее, что необходимо здесь отметить, это то, что мозгу необходима многоуровневая структура, поскольку его механизмы должны быть невероятно гибкими, чтобы выжить в непредсказуемом, динамичном мире. Негибкие программы окажутся быстро вытесненными. Стратегия, которая хороша для охоты на динозавра, не годится для охоты на мамонта и еще меньше подходит для того, чтобы ухаживать за домашними животными или ехать на работу в метро. Разумная система должна быть способна переделывать себя — анализировать ситуацию и перестраиваться — на довольно глубоком уровне. Подобная гибкость требует, чтобы неизменными оставались лишь самые абстрактные типы механизмов. Многоуровневая система может иметь программы, приспособленные для самых разнообразных нужд (например, программы для игры в шахматы, охоты на мамонта и так далее) на самом поверхностном уровне и все более абстрактные программы на более глубоких уровнях, используя таким образом преимущества и того и другого. Примерами более глубоких программ являются программы для распознавания паттернов; для оценки противоречащих друг другу сведений; для решения того, какая из требующих внимания подсистем важнее; для решения того, как классифицировать воспринимаемую в данный момент ситуацию, на случай, если в будущем понадобится воспользоваться прошлым опытом в похожих обстоятельствах; для оценки того, похожи ли два разных события, и тому подобное. Дальнейшее описание этого типа системы заведет нас в глубь философской и технической территории когнитивистики. Мы не пойдем так далеко; вместо этого мы отсылаем читателя к “Рекомендуемой литературе”, к разделу, посвященному обсуждению различных стратегий представления знаний в людях и в программах. В частности, книга Аарона Сломана “Компьютерная революция в философии” (Aaron Sloman, Computer Revolution in Philosophy) рассматривает эти вопросы очень подробно. Д.Р.Х. 12 АРНОЛЬД ЗУБОФФ История одного мозга I Жил да был один добрый юноша, у которого было много денег и еще больше друзей. В один ужасный день он узнал, что заболел страшной болезнью, которая должна поразить гниением все его тело, кроме нервной системы. Юноша любил жизнь, любил ощущать мир вокруг. Поэтому он очень заинтересовался, когда его гениальные друзья-ученые предложили ему следующее: “Мы вынем из твоего бедного гниющего тела мозг и поместим его в питательный раствор, где он будет сохраняться живым и здоровым. Мы подсоединим его к аппарату, способному вызывать в нем все возможные варианты нервных импульсов; таким образом, ты сможешь пережить любой опыт, который способна вызвать в тебе или которым способна быть твоя нервная система”. Ученые употребили два разных глагола, “вызывать” и “быть”, потому что, хотя все они были сторонниками одной общей теории, которую называли “нейронная теория опыта”, между ними были разногласия по поводу конкретных формулировок этой теории. Все они знали о бесчисленных случаях, когда было совершенно ясно, что состояние мозга (схема его нервной деятельности) является причиной того, что человек испытывает именно эти ощущения, а не какие-либо иные. Им казалось верным предположение, что конечный контроль за существованием и природой опыта осуществляется нервной системой — точнее, ее состоянием в тех участках мозга, которые в результате тщательных исследований были соотнесены с сознанием в том или ином его аспекте. Именно благодаря этому убеждению они и сделали своему другу это заманчивое предложение. Ученые расходились в мнениях по поводу того, состоит ли опыт в нервной деятельности или вызывается ею. Несмотря на эти разногласия, все они были уверены в том, что пока мозг их друга жив и функционирует под их наблюдением, они смогут предоставлять ему его любимые впечатления сколь угодно долго, словно он сам разгуливает, где пожелает, и попадает в разные ситуации, которые естественным образом вызвали бы те же впечатления, как и искусственная стимуляция мозга. Если бы он заглянул в проталину на льду замерзшего пруда, находящаяся там физическая реальность заставила бы его увидеть то, что когда-то описал Торо: “Тихая рыбья гостиная, пронизанная мягким светом, словно падающим сквозь матовое стекло, со светлым песчаным полом, точно летом”. Мозг, лежащий в своей ванночке, лишенный тела и находящийся вдали от пруда, заставил бы молодого человека пережить в точности то же самое, если бы ученые заставили этот мозг вести себя так, словно его хозяин находится на берегу пруда и смотрит в ледяное окошечко. Молодой человек согласился на предложение друзей и стал ожидать операции. Спустя всего лишь месяц его мозг уже плавал в теплом питательном растворе. Друзья-ученые работали не покладая рук, изучая на наемных испытуемых то, какие схемы нервного возбуждения в мозгу соответствуют естественным ответам мозга на самые приятные из ситуаций. Именно эти схемы они и вызывали в мозгу своего друга, передавая электрические импульсы по электродам сложного аппарата. Потом случилось несчастье: ночной сторож выпил лишнего. Проходя через комнату, он пошатнулся и угодил рукой в сосуд с мозгом, разделив тот на два полушария. На следующее утро ученые страшно рассердились. Они уже были готовы ввести в мозг новую порцию прекрасных ощущений, нервные схемы которых им удалось обнаружить. “Если мы снова соединим полушария и оставим мозг нашего друга заживать, нам придется ждать целых два месяца, прежде чем мы сможем ввести ему новые ощущения и узнать результаты своих исследований. Разумеется, он не заметит ожидания, но мы-то заметим! Вдобавок нам известно, что, к несчастью, два разделенных полушария мозга не могут иметь те же схемы нейронного возбуждения, как когда они были соединены. Импульсы, которые в нормальном мозгу переходят из одного полушария в другое, не могут преодолеть открывшейся между ними пропасти.” Конец этой речи навел кого-то из присутствующих на новую мысль. Почему бы не взять тончайшие электрохимические провода и не подсоединить их концы к синапсам нейронов, готовых получить или передать нервный импульс? Эти провода могут присоединять каждый нейрон, чья связь была нарушена в результате аварии, к нейрону в другом полушарии, к которому он был раньше подсоединен. “Таким образом”, — резюмировал Берт, автор этой идеи, — “все импульсы могут попасть по проводам туда, куда и должны были — в другое полушарие”. Все горячо поддержали это предложение, поскольку им казалось, что система проводов может быть изготовлена всего за неделю. Однако один из друзей, по имени Кассандр, продолжал беспокоиться. “Мы все согласны с тем, что наш друг испытывал те ощущения, которые мы пытались ему передать; то есть все мы принимаем нейронную теорию опыта в том или ином виде. По этой теории, с которой мы все согласны, вполне допустимо изменять контекст функционирующего мозга, если при этом мы оставляем неизменными схемы нервной деятельности. Ситуацию можно рассмотреть следующим образом. Существуют некоторые условия для опыта обычного типа, например, для опыта на замерзшем пруду, через который, если я не ошибаюсь, мы заставили нашего друга пройти три недели назад. Обычно эти условия включают нахождение мозга внутри живого тела у пруда и стимуляцию такой же нервной деятельности, как та, которую мы вызвали в мозгу нашего друга. Мы снабдили его опытом, отделенным от условий контекста, поскольку у нашего друга нет тела, и поскольку мы полагаем, что основным и решающим для наличия и характера опыта является не сам контекст, а та нервная деятельность, которую он вызывает. Мы считаем, что условия контекста совершенно не важны для того факта, что человек испытывает некие ощущения, даже если при естественных ощущениях условия контекста и являются основными. Если у кого-то, как и у нас, есть возможности, позволяющие обойти естественную нужду в этих внешних условиях опыта на пруду, тогда эти условия перестают быть необходимыми. И это доказывает, что в рамках нашей концепции опыта они в принципе никогда не были необходимы для наличия опыта. То, что вы предлагаете проделать с проводами, означает, что мы признаем неважным еще одно естественное условие того, что наш друг переживает некий опыт. То, что я сейчас сказал о контексте нервной деятельности, вы повторяете по отношению к условию близости полушарий друг к другу. Вы утверждаете, что связь между полушариями может быть необходимой в нормальных случаях, но, если это условие можно обойти в исключительных случаях, вроде случая с вашими проводами, то мозг тем не менее будет испытывать точно такие же ощущения, как и в обычной ситуации. Вы говорите, что контакт между полушариями не является необходимым условием наличия опыта. Но не может ли случиться, что, полностью повторив схему нервной деятельности в разделенном мозгу, мы все еще не повторим опыта нормального, неповрежденного мозга? Не может ли контакт между полушариями в каком-то смысле являться необходимым условием этого опыта?” Опасения Кассандра не были приняты всерьез. Большинство присутствующих ответили ему примерно так: “Но откуда сами полушария узнали бы, что между ними — провода вместо обычного соединения? Разве этот факт был бы закодирован в любой из структур мозга, отвечающей за речь, мысль или другой аспект сознания? Какое дело нашему другу до того, как видят его мозг сторонние наблюдатели, пока он испытывает те же удовольствия? В конце концов, его мозг уже и так плавает, обнаженный, в питательном растворе! Пока нервная деятельность в разделенных или соединенных полушариях человека в точности совпадает с той нервной деятельностью, которая происходила бы в соединенных полушариях у кого-то в голове, когда тот гуляет и развлекается, значит, и сам этот человек в данный момент развлекается. Если бы мы присоединили к его мозгу рот, он рассказал бы нам об этом!” В ответ на эти реплики, которые становились все короче и сердитее, Кассандр лишь бормотал что-то о разрыве поля ощущений или “чего-то в этом роде”. Однако, когда работа над системой проводов уже началась, один из ученых выдвинул новое возражение, которое произвело большее впечатление. Он заметил, что в нормальном мозгу нервные импульсы попадают из одного полушария в другое практически мгновенно, в то время как путешествие по проводам оказывается более медленным. Поскольку остальные импульсы в обоих полушариях будут перемещаться с обычной скоростью, общая картина может оказаться искаженной, и система будет действовать так, словно она замедлена лишь в одном месте. Достигнуть нормального функционирования будет невозможно, и в результате мы получим некую странную, искаженную ситуацию. Выслушав это удачное возражение, ученый, мало что понимавший в физике, предложил заменить провода на радиосигналы. Для этого поверхность раздела каждого полушария надо было снабдить неким “патроном импульсов”, который смог бы передавать любую схему импульсов обнаженным и отсоединенным нейронам своего полушария и получать от них любые импульсы, которые они хотели бы послать в другое полушарие. Затем каждый патрон будет подключен к радиопередатчику и радиоприемнику. Когда патрон получит от нейрона в одном из полушарий импульс, направленный нейрону другого полушария, он будет передан по радио другому патрону и, таким образом, попадет по адресу. Автор этой идеи даже предположил, что полушария могут содержаться в разных сосудах и, тем не менее, испытывать те же ощущения, что и неразделенный мозг. Он полагал, что преимущество радиосигналов над проводами заключается в том, что радиоволны, в отличие от проводов, позволяют сигналу попасть по назначению мгновенно. Его быстро разубедили. Система радиоволн отнюдь не помогала избавиться от запоздания сигналов. Разговоры о встроенных патронах импульсов вдохновили Берта на новую идею. “Мы можем ввести в каждый патрон те же импульсы, которые он бы принял по радио, но сделать это без проводов или радиопередачи. Для этого будет необходимо всего-навсего вместо радиопередатчика и радиоприемника присоединить к каждому патрону так называемый “программер импульсов”, приспособление, которое будет “проигрывать” любую предварительно вложенную в него программу импульсов. Преимущество этой системы в том, что теперь импульсы, входящие в одно из полушарий, не должны быть действительно вызваны импульсами, переданными другим полушарием. Таким образом, ждать трансляции не приходится! Запрограммированные патроны могут так соотноситься с общей схемой стимуляции нервной деятельности, что результат не будет отличаться от работы нормального мозга. Тогда, действительно, будет возможно поместить каждое полушарие в отдельный сосуд — например, один в этой лаборатории, а другой — в лаборатории на другом конце города, так что мы сможем сконцентрировать всю мощь каждой из лабораторий для работы лишь с одним полушарием. Это может значительно облегчить нам работу. И мы сможем расширить штат — к нам уже давно просится масса народу”. Но теперь Кассандр встревожился еще больше. “Мы уже отказались от условия непосредственной близости, а теперь собираемся оставить в стороне еще одно обычное условие опыта — условие реальной каузальной связи. Я согласен с тем, что вы сможете обойти обычные условия опыта. С вашим аппаратом-программером импульсы в одном полушарии больше не должны будут являться причиной возникновения нервных импульсов в другом полушарии и получения опыта полного мозга. Однако является ли результат все еще фактом опыта нормального мозга или же, отказавшись от этого условия, вы отказались от абсолютного принципа, от основного условия полного опыта?” Ответы на это новое возражение были почти такими же, как и на его предыдущее замечание. Откуда нервной деятельности будет известно, получает ли она входные данные от радиопередатчика или от патрона импульсов? Как может этот факт, совершенно чуждый нервным структурам, управляющим мышлением, речью и остальными аспектами мышления, быть отмечен в этих структурах? Безусловно, он не может быть зарегистрирован там механически. Не является ли результат, полученный с помощью проводов, совершенно таким же, как и результат, полученный с помощью “проигрывателя-программера” — с той разницей, что проблема запаздывания по времени во втором случае оказалась решена? Если встроить в систему рот, не рассказал бы он нам о переживаниях мозга как в первом, так и во втором случаях? Вскоре было предложено еще одно нововведение. Оно было связано с вопросом о том, важно ли теперь, когда полушария работают независимо друг от друга, синхронизировать между собой нервные импульсы каждого из них, несмотря на то, что между ними больше нет каузальной связи. Теперь каждое полушарие получает в точности такие же импульсы, которые оно получило бы от другого полушария, и эти импульсы находятся в точном временнОм соответствии с его остальными импульсами. Этот эффект может быть легко достигнут в каждом из полушарий вне зависимости от того, был ли он уже достигнут в другом; поэтому нет никакой нужды цепляться за то, что Кассандр именовал “условием синхронизации”. Некоторые из присутствующих говорили: “Откуда одно полушарие может узнать, когда другое начинает действовать, — по крайней мере, с точки зрения внешнего наблюдателя? Ведь каждое полушарие функционирует в точности так же, как если бы другое работало вместе с ним! Стоит ли беспокоиться, если в одной лаборатории данные будут введены сегодня, а в другой лаборатории вторая половина данных будет предоставлена тому полушарию только на другой день? Общая картина от этого не нарушится, опыт будет пережит. Если бы мы присоединили к его мозгу рот, наш друг даже смог бы нам об этом рассказать!” Между учеными также возник спор о том, стоит ли поддерживать то условие, которое Кассандр назвал “топологией” — надо ли следить, чтобы оба полушария были расположены одно напротив другого. Предупреждения Кассандра опять были проигнорированы. II Прошла тысяча лет. Работа над проектом все еще продолжалась. Теперь лаборатории располагались по всей галактике, а технология достигла невиданных высот. В проекте участвовали миллиарды ученых, жаждущих принять участие в “Великом Вводе Опыта”. Разумеется, все они верили, что программирование нервных импульсов действительно заставляет человека испытывать естественные переживания. Чтобы предоставить всем желающим возможность участвовать в работе, пришлось, на первый взгляд до неузнаваемости, изменить то, что Кассандр называл “условиями”. (В действительности, они стали в какой-то мере более консервативными, чем когда мы сталкивались с ними в последний раз, поскольку нечто вроде “синхронизации” было восстановлено.) Как раньше каждое из полушарий лежало в своем сосуде, теперь в собственном сосуде находился каждый отдельный нейрон. Поскольку нейронов были миллиарды, каждый из миллиардов сотрудников мог гордиться тем, что обслуживает нейрон в одном из сосудов. Чтобы правильно понять сложившуюся ситуацию, нам придется отступить на столетия назад к тому моменту, когда все большее количество людей выражали желание принять участие в проекте. Прежде всего ученые согласились с тем, что, если полноценный опыт может быть получен, когда два полушария разделены и обработаны так, как описано выше, то такой же опыт можно получить, если аккуратно разделить каждое из полушарий пополам и обработать каждую часть так же, как до этого были обработаны полушария. Таким образом, каждая из четырех частей мозга могла теперь получить не только отдельный сосуд, но и целую лабораторию, и в проекте смогло участвовать большее количество людей. Ничто не препятствовало дальнейшему делению; в результате через десять столетий мы получили описанную ситуацию. Теперь каждый человек отвечал за один нейрон. На оба конца нейрона были прикреплены патроны импульсов, передающие и принимающие импульсы в соответствии с программой. Между тем Кассандры не переводились. Постепенно они перестали предлагать выполнять условие близости, поскольку это сильно рассердило бы всех остальных ученых, желающих управлять частью мозга. Тем не менее, они указали на то, что первоначальная топология мозга, то есть относительная позиция и пространственная ориентация каждого нейрона, может быть сохранена, даже если мозг разделен на части. Они также считали, что необходимо запрограммировать нейроны таким образом, чтобы они испускали импульсы с той же хронологией, по той же самой временнОй схеме, как они делали бы это в неразделенном мозге. Однако замечания насчет топологии всегда получали отпор. Вот пример одного из обычных, презрительных ответов: “Откуда каждый нейрон может знать, как в нем может отразиться информация о его положении по отношению к другим? В случае обычного опыта нейроны, действительно, в этом нуждаются: они должны быть рядом друг с другом, заставляя соседний нейрон испускать нервные импульсы; они должны находиться в определенной пространственной ориентации по отношению друг к другу, чтобы возбуждаться по схеме, вызывающей опыт или им являющейся. Однако благодаря использованию новых технологий первоначальная необходимость в этом отпала. Мне этого совсем не требуется, чтобы вызвать некое переживание у старого джентльмена, чей нейрон находится передо мной. И если бы мы могли присоединить все эти нейроны ко рту, он сам рассказал бы нам о своем опыте”. Насчет второго предложения Кассандра читатель может подумать, что после каждого следующего разделения мозга синхронизация частей постепенно теряет свою актуальность и что в конце концов будет решено, что неважно, как нервные импульсы одного нейрона соотносятся во времени с остальными — ведь именно такое решение было принято, когда мозг был разделен на два полушария впервые. Однако каким-то образом условие синхронизации и порядка было снова принято, хотя и не совсем так, как предлагал Кассандр, — ведь иначе искусство программирования свелось бы к абсурду. Те люди, которые стоят около своих сосудов, ожидая, когда каждый верно запрограммированный импульс попадет в нейрон, теперь просто предполагают, что “правильный” временнОй порядок необходим для получения данного сенсорного опыта. Однако теперь, тысячелетие спустя после рождения великого проекта, уютный мирок его участников оказался накануне краха. В этом были повинны два мыслителя. Один из них, по имени Спойлар (от англ. spoil — портить. — Прим. перев.), заметил однажды, что нейрон под его контролем стал работать все хуже. Подобно многие другим ученым, бывшим до него в таком же положении, он получил новый нейрон, заменил изношенный и выбросил его вон. Таким образом он, как и многие другие до него, нарушил кассандрово условие “нейронной тождественности” — условие, которое не принимали всерьез даже сами Кассандры. Было установлено, что в обычном мозгу клеточный обмен веществ всегда постепенно заменяет определенное вещество каждого нейрона на другое определенное вещество, производя точно такой же нейрон. Заменив нейрон, этот человек только ускорил естественный процесс. Кроме того, что если, как фантазировали некоторые Кассандры, постепенная замена всех нейронов на такие же дала бы нам новую личность субъекта опыта? Какой-либо субъект опыта у нас оставался бы, и он испытывал бы те же самые ощущения, когда его нейроны возбуждались бы по той же программе, как и раньше (даже сами Кассандры не знали точно, что имеют в виду, утверждая, что он будет другим субъектом опыта). Таким образом, никакое изменение нейронного тождества не затрагивало тот факт, что субъект переживал некий опыт. Итак, Спойлар заменил нейрон и уселся у своего сосуда ждать импульса, который, как часть запрограммированного опыта, должен был случиться через несколько часов. Вдруг он услышал звук падения и затем — залп проклятий. Кто-то споткнулся и упал на сосуд другого ученого. Сосуд упал на пол и разбился. Чтобы продолжать принимать участие в процессе, ученый, работавший с тем сосудом, должен был ждать, пока его починят и заменят лежавший в нем нейрон. Спойлар знал, что по расписанию у бедняги вскоре ожидался очередной импульс. Ученый, чей сосуд был только что разбит, подошел к Спойлару. “Слушай”, — сказал он, — “я тебя не раз выручал. Через пять минут мне придется пропустить свой импульс, и опыту придется обойтись без одного нервного импульса. Может, ты позволишь мне принять твой следующий импульс? Ужасно не хочется пропускать запрограммированное на сегодня удовольствие!” Спойлар обдумал просьбу коллеги. Внезапно ему в голову пришла странная мысль. “Скажи, ведь твой нейрон был того же типа, что и мой?” “Да”. “Я только что заменил свой нейрон на новый, как мы все иногда делаем. Почему бы нам не перенести весь мой сосуд на место твоего? Тогда мы получим с моим нейроном тот же опыт, как если бы твой старый нейрон был на месте! Ясно, что сосуды не должны быть тождественны! Потом мы отнесем сосуд на место, и через несколько часов я смогу спокойно заняться своим очередным импульсом. Постой… мы оба считаем, что условие топологии — чепуха. Тогда зачем нам вообще передвигать сосуд? Давай оставим его на месте, ты займешься своим импульсом, а я — своим. При этом ни одно из проецируемых ощущений не пострадает. Но погоди — ведь это означает, что мы можем работать только с одним нейроном, вместо всех нейронов того же типа! Тогда нам понадобится по одному нейрону каждого типа, каждый из них будут возбуждаться снова, снова и снова, чтобы произвести в нашем субъекте всю гамму ощущений. Но откуда нейроны “узнают”, что, когда они возбуждаются снова и снова, они повторяют импульс? Откуда им будет известен относительный порядок импульсов? Значит, нам достаточно, чтобы каждый из нейронов возбудился лишь один раз, и это даст нам физическую реализацию всех возможных схем импульсов (к этому заключению мы пришли бы, если бы постепенно отказывались от условия синхронизации в движении от разделенных полушарий к отдельным нейронам). И не могли бы эти нейроны просто быть одними из тех, которые возбуждаются естественным образом в любой голове? Так чем мы все тогда здесь занимаемся?” Тут ему в голову пришла еще более отчаянная мысль: “Но если любое переживание и ощущение можно получить путем единственного возбуждения нейрона каждого типа, как может какой-либо субъект эксперимента поверить, что он подключен к чему-либо большему, чем абсолютный минимум физической реальности, посредством того факта, что он ощущает любое из переживаний? Значит, все эти разговоры о головах и нейронах в них, которые предположительно основаны на действительном открытии физической реальности, совершенно теряют смысл. Система физических реалий может существовать на самом деле, но если в ней участвует вся эта физиология, в которую нас заставили поверить, она настолько легко обеспечивает такое количество сенсорных переживаний, что мы никогда не сможем узнать, каково действительное ощущение самой физической реальности. Поэтому вера в подобную систему опровергает себя сама, пока система не будет ограничена кассандровыми принципами”. Другой мыслитель, которого по странному совпадению также звали Спойлар, пришел к тому же заключению несколько иным путем. Ему нравилось соединять нейроны в цепочки. Однажды его собственный нейрон оказался в середине длинных нейронных “бус” из нейронов одного типа, когда Спойлар вспомнил, что пора присоединять его к патрону для очередного возбуждения. Ему не хотелось нарушать цепочку, тогда он просто присоединил нейроны на ее концах к двум полюсам импульсного патрона и отрегулировал настройку таким образом, чтобы идущий по цепи импульс достиг его нейрона в нужное время. Тут он заметил, что, в отличие от нейрона в обычном опыте, нейрон в такой цепи одновременно испытывает два типа возбуждения: то, что передается по цепи и выполняет условия близости и каузальной связи, и то, что является частью запрограммированного опыта. После этого Спойлар начал высмеивать условие “нейронного контекста”. Он говорил: “Я бы мог присоединить мой нейрон ко всем нейронам у вас в голове, и если бы мне при этом удалось заставить его вовремя послать нужный импульс, я бы мог заставить его участвовать в любом из запрограммированных переживаний с тем же успехом, как если бы он оставался у меня в сосуде, подключенный к патрону”. Однажды случилась беда. Люди, которым отказали в участии в проекте, пробрались ночью в лабораторию и натворили там такого, что многие нейроны погибли. Эта судьба постигла и нейрон Спойлара. Стоя перед своим мертвым нейроном и озирая следы разрушения вокруг, ученый подумал, каким будет первое переживание этого дня для субъекта опыта, когда так много нейронов выпали из общей схемы физической реализации. Однако пока он оглядывался, он заметил что-то еще. Почти каждый сотрудник, наклонившись, исследовал поломку аппаратуры под собственным сосудом. Спойлар подумал, что сейчас вблизи каждого сосуда находится по голове, каждая с миллиардами собственных нейронов разных типов, и миллионы нейронов каждого типа передают в данный момент какой-либо импульс. Близость была неважна. Однако в любой момент, когда определенный опыт передавался в сосуды, вся нужная деятельность уже происходила в головах у операторов — даже в единственной из этих голов, где в какой-то степени выполнялось и условие близости! Каждая голова могла послужить сосудом и патроном для любого переживания разделенного мозга. “Однако, — подумал Спойлар, — один и тот же тип физического воплощения должен существовать для каждого переживания каждого мозга, поскольку каждый мозг можно разделить. Это включает и мой собственный мозг. Но тогда все мои убеждения основаны на мыслях и опыте, которые могли бы существовать в виде подобного туманного, плавающего в пространстве облачка. Все они подозрительны, — даже те, которые убедили меня во всей этой физиологии. Если только Кассандр не прав, то все физиология сводится к абсурду. Она опровергает саму себя.” Подобные идеи расправились с великим проектом, и вместе с ним прекратил свое существование и разделенный мозг. Люди занялись другими типами странной деятельности и пришли к новым заключениям о природе опыта. Но это уже другая история. Размышления Эта причудливая история на первый взгляд ловко опровергает практически все идеи, изложенные в остальных главах этой книги, сводя к абсурду все предположения об отношениях между мозгом и опытом, ранее казавшиеся нам невинными и самоочевидными. Что можно возразить против таких выводов? Вот некоторые возможности: Представьте себе, что некто утверждает, что дома у него имеется абсолютно точная мраморная копия “Давида” Микеланджело. Когда вы приходите полюбоваться на это чудо, вы видите посреди гостиной двадцатифутовый прямоугольный кусок чистого белого мрамора. “Я еще не успел его распаковать, но я знаю, что он там внутри”, — говорит ваш приятель. Обратите внимание, как мало говорит нам Зубофф об этих чудесных “патронах” и “программерах импульсов”, которые прикрепляются к различным частям мозга. Мы узнаем, что они “всего лишь” всю жизнь предоставляют соответствующему нейрону или группе нейронов правильные импульсы в правильном порядке. Можно подумать, что это что-то вроде обычных зуммеров. Но подумайте о том, что эти патроны на самом деле делают, и сравните это с гораздо более “легкой” в техническом отношении задачей. Из-за забастовок закрываются все телевизионные станции и по телевизору нечего смотреть. К счастью, компания IBM приходит на помощь людям, которые уже начинают сходить с ума без дневной порции телевидения, и посылает им “патроны импульсов” для присоединения к телевизору. Эти патроны запрограммированы на то, чтобы производить десять каналов новостей, погоды, сериалов, спорта и так далее. Разумеется, все передачи придуманы (новости не будут соответствовать действительности, но, по крайней мере, будут на нее похожи). В конце концов, говорят техники из IBM, всем известно, что телевизионные сигналы — всего лишь импульсы, передаваемые со станций; наши патроны — просто более короткая дорога к приемнику. Но что может быть внутри этих чудесных патронов? Что-то вроде видеозаписей? Тогда как были сделаны сами эти записи? Были ли на них засняты живые актеры, ведущие новостей и так далее, или же они были изготовлены при помощи техники анимации? Специалисты скажут вам, что задача изготовления всех этих образов без помощи живых съемок необычайно трудна, и сложность прямо пропорциональна желаемой степени реализма. По сути, лишь реальный мир достаточно богат информацией, чтобы предоставить (и контролировать) потоки сигналов, необходимые для реалистических передач телевидения. Воссоздание действительного мира восприятий (подобное задаче, которую Декарт в своих “Размышлениях” дал бесконечно могучему демону обмана) может быть возможно в принципе, но совершенно немыслимо на практике. Декарт был прав, когда приписал своему злому демону бесконечную мощь — никакой менее могучий обманщик не смог бы поддерживать иллюзию, не обращаясь к реальному миру и не возвращаясь к образам действительности, какими бы запоздавшими и искаженными они при этом не получались. Эти рассуждения — косвенные аргументы против идей Зубоффа. Можно ли соединить их в смертельную для этих идей комбинацию? Может быть, нам удастся убедиться в абсурдности его заключений, если мы спросим себя, нельзя ли с помощью такого рода рассуждений доказать ненужность книг. Не довольно ли напечатать алфавит один раз, и таким образом навсегда избавиться от книгопечатания? Но кто сказал, что нам нужен весь алфавит? Не хватит ли одной буквы? Одной палочки? Одной точки? Логик Рэймонд Смоллян, с которым мы познакомимся дальше в этой книге, утверждает, что правильный способ обучения игры на фортепиано заключается в том, чтобы, одну за другой, освоить каждую ноту. Вы можете потратить целый месяц, практикуясь в ноте до первой октавы, и по нескольку дней в нотах на концах клавиатуры. Но не забудьте о паузах — ведь они также очень важны! Вы можете провести день, практикуясь в целых паузах, два дня в половинках, четыре дня — в четвертях и так далее. Как только вы закончите обучение, вы сможете сыграть что угодно! Вроде бы все правильно, и тем не менее, что-то здесь слегка настораживает… Физик Джон Арчибальд Уилер однажды предположил, что все электроны так похожи друг на друга потому, что на самом деле есть только один электрон, который снует туда-сюда с начала времен и сплетает ткань физической вселенной, бесчисленное количество раз пересекая собственный путь. Может быть Парменид был прав, и в мире существует лишь одна вещь. Но эта единственная вещь, представленная таким образом, имеет пространственно-временные части, которые входят в астрономическое количество отношений с другими ее пространственно-временными частями, и эта относительная организация во времени и пространстве является значимой. Но для кого? Для той части этой огромной ткани, которая представляет собой наблюдателей. Но как их отличить от всей остальной ткани? Д.К.Д. Д.Р.Х. |
|
||
