|
||||
|
|
К. МАРКС и Ф. ЭНГЕЛЬС ВЕЛИКИЕ МУЖИ ЭМИГРАЦИИ[119] Написано К. Марксом и Ф. Энгельсом в мае — июне 1852 г. Впервые опубликовано Институтом марксизма-ленинизма при ЦК КПСС в «Архиве К. Маркса и Ф. Энгельса», книга V, 1930 г. Печатается по рукописи Перевод с немецкого I
Готфрид Кинкель родился лет сорок тому назад. Жизнь его описана в автобиографии: «Готфрид Кинкель. Правда без вымысла. Биографический очерк». Издана Адольфом Штродтманом (Гамбург, Гофман и Кампе, 1850, in 8°)[121]. Готфрид является героем демократического зигвартовского периода[122], породившего в Германии столь беспредельную патриотическую тоску и слезоточивую скорбь. Дебютировал он в качестве посредственного лирического Зигварта. Характерные для дневника растянутость и бессвязность, с которой его земное существование преподносится читателю, так же как и назойливую развязность сих откровений следует отнести на счет апостола Штродтмана, «компилятивному изложению» которого мы следуем. Бонн. Февраль — сентябрь 1834 «Юный Готфрид вместе со своим другом Паулем Целлером изучал евангелическую теологию и снискал трудолюбием и благочестием уважение своих знаменитых учителей» (Зака, Ницша и Блека) (стр. 5). С самого же начала он предстает перед нами «явно погруженным в серьезные размышления» (стр. 4), «опечаленным и мрачным» (стр. 5), совсем как это подобает grand homme en herbe {будущему великому человеку. Ред.}. «Карие, сверкающие мрачным огнем очи Готфрида следили» за несколькими буршами «в коричневых фраках и светло-голубых плащах». Готфрид тотчас же ощутил, что бурши эти «стремились прикрыть внутреннюю пустоту внешним блеском» (стр. 6). Его нравственное негодование объясняется тем, что Готфрид «защищал Гегеля и Мархейнеке», в то время как эти бурши обозвали последнего «тупицей». Впоследствии, когда кандидат теологии явился в Берлин на предмет продолжения занятий и должен был сам чему-нибудь научиться у Мархейнеке, он записал в своем дневнике в его адрес следующее художественное изречение (стр. 61): «Кто философствует, тот выбрал путь плохой, Готфрид позабыл здесь, правда, о другом изречении, в котором Мефистофель подтрунивает над жаждущим познания учеником: «Презри лишь разум и науку!»[124] Вся эта назидательная студенческая сценка служит, между тем, лишь вступлением к тому, чтобы дать будущему освободителю мира повод для следующего откровения (стр. 6). И сказал Готфрид: «И все же этому поколению но погибнуть, если не быть войне… Лишь сильно действующими средствами можно помочь нашему захиревшему веку!». А друг его ответствовал: «Новый потоп и ты в нем подобно Ною, но во втором, исправленном издании». Таким образом, светло-голубые плащи настолько способствовали развитию Готфрида, что он мог провозгласить себя «Ноем нового потопа». Друг его делает по этому поводу следующее замечание, которое можно было бы поставить эпиграфом к самой биографии: «Мы с отцом частенько посмеивались втихомолку над твоим пристрастием к неясным понятиям!» Во всех этих откровениях прекрасной души повторяется только одно «ясное понятие» — Кинкель уже в зародышевом состоянии был великим человеком. Самые обыденные вещи, происходящие со всеми заурядными людьми, становятся у него многозначительными событиями. Ничтожные горести и радости, переживаемые каждым кандидатом теологии в более интересной форме, столкновения с мещанской обстановкой, десятками наблюдаемые во всяком интернате и всякой консистории Германии, становятся у него роковыми событиями мирового значения, по поводу которых преисполненный мировой скорби Готфрид непрестанно разыгрывает комедию. Семья друга Пауля покидает Бонн и возвращается в Вюртемберг. Готфрид инсценирует это событие следующим образом. Готфрид любит сестру Пауля и возвещает при этом, что он «любил уже дважды». Но теперешняя любовь его — не какая-нибудь обыкновенная любовь, а «ревностное и истинное почитание бога» (стр. 13). В сопровождении друга Пауля Готфрид совершает восхождение на Драхенфельс и на фоне этой романтической декорации разражается следующим дифирамбом: «Прощай, дружба, — во Спасителе найду я брата! Прощай, любовь, — невестой моей будет вера! Прощай, привязанность сестры, — я войду в многотысячную общину праведников! Выйди же, о мое юное сердце, и научись быть наедине с твоим богом и борись с ним, пока не одолеешь его и не наречет он тебя новым именем, именем священного Израиля, неведомого никому, кроме обретающего его! Привет тебе, величаво восходящее солнце, отражение моей пробуждающейся души!» (стр. 17). Итак, расставанье с другом служит для Готфрида поводом воспеть восторженный гимн своей собственной душе. Однако этого недостаточно — Другу также полагается петь в унисон. Во время этого восторженного излияния Готфрид говорит «приподнятым голосом, чело его пылает», он «забывает о присутствии своего друга», «взгляд его сияет радостью», «возгласы его исполнены восторга» и т. д. (стр. 17) — словом, инсценируется все ветхозаветное явление Ильи-пророка. «С грустной улыбкой посмотрел на него Пауль преданными очами и молвил: «В груди твоей бьется более мужественное сердце, нежели в моей, — ты, конечно, превзойдешь меня, — но позволь мне оставаться твоим другом и вдали от тебя». Готфрид с радостью пожал протянутую ему руку и возобновил старый союз» (стр. 18). В этой сцене горнего преображения Готфрид добился, чего хотел. Друг Пауль, недавно еще посмеивавшийся над «пристрастием Готфрида к неясным понятиям», склоняется перед именем «священного Израиля» и признает превосходство и будущее величие Готфрида. Готфрид ликует и с дружеской снисходительностью возобновляет старый союз. * * *Перемена декорации. День рождения матери Кинкеля, супруги оберкассельского пастора Кинкеля. Семейное торжество дает повод возвестить о том, что, «подобно матери Спасителя, почтенная мать семейства именовалась Марией» (стр. 20), — несомненное предзнаменование того, что Готфрид также призван быть спасителем и искупителем мира. Таким образом, студент теологии на протяжении первых же двадцати страниц изображается в связи с ничтожнейшими событиями Ноем, священным Израилем, Ильей и, наконец, Христом. * * *Готфрид, который в сущности ничего не переживает, естественно, в ходе переживаемого непрерывно копается в своих внутренних ощущениях. Пиетизм, свойственный ему как сыну проповедника и будущему богослову, вполне соответствует как врожденной слабости его духа, так и кокетливой возне с собственной особой. Мы узнаем, что мать и сестра отличались суровым благочестием и что Готфрид был преисполнен сознанием своей греховности. Конфликт этого богобоязненного воззрения на греховность с «веселым жизнерадостным времяпрепровождением» обыкновенных студентов становится у Готфрида, сообразно его всемирно-историческому призванию, борьбой религии и поэзии, и кружка пива, выпиваемая сыном оберкассельского пастора в компании других студентов, превращается в ту роковую чашу, в которой борются обе души Фауста. Из описания набожной семейной жизни мы узнаем, как «матерь Мария» борется с «греховным влечением Готфрида к театру» (стр. 28), — многозначительная раздвоенность, которая опять-таки должна предуказывать будущего поэта, в действительности же лишь обнаруживает пристрастие Готфрида к актерскому ломанью. О его сестре Иоганне позднее отзывались как о пиетистской мегере и говорили, что она однажды дала пощечину пятилетней девочке за то, что та была невнимательной в церкви, — грязная семейная история, разглашение которой было бы непонятно, если бы в конце книги не оказалось, что именно эта сестра Иоганна ревностнее всех восставала против брака Готфрида с г-жой Моккель. Как о событии, упоминается о том, что в Зельшейде Готфрид произнес «великолепную проповедь на тему об увядающем пшеничном зерне». * * *Семья Целлеров и «возлюбленная Элиза», наконец, уезжают. Мы узнаем, что Готфрид «горячо сжал руку девушки» и ласково прошептал ей: «Элиза, прощайте! Больше я ничего не смею сказать». За этой интересной повестью следует первое зигвартовское стенание: «Уничтоженный!» «Безмолвный?» «Безутешная надорванность!» «Пылающее чело!» «Глубочайшие вздохи!» «Безумнейшая боль пронизала его мозг» и пр. и пр. (стр. 37). Вся сцена в подражанье явлению Ильи-пророка оказывается, таким образом, чистой комедией, разыгранной перед «другом Паулем» и перед самим собой. Пауль также вновь появляется на сцене, чтобы прошептать на ухо одиноко скорбящему Зигварту: «Этот поцелуй моему Готфриду». (стр. 38). Готфрид возрадовался вновь. «Тверже чем когда-либо мое решение увидеть вновь мою милую, лишь когда я буду ее достоин и составлю себе имя» (стр. 38). И в любовной тоске у него нет недостатка в размышлениях о будущем имени и в щеголянии авансом лавровым венком. Готфрид пользуется этим интермеццо, чтобы с невообразимым хвастовством запечатлеть на бумаге повествование о своей любви, дабы не были утрачены для мира его чувствования, существующие лишь на страницах дневника. Однако главный эффект сцены еще не достигнут. Верный Пауль принужден обратить внимание своего намеревающегося покорить мир наставника на то обстоятельство, что, быть может, впоследствии Элиза, которая остановится в своем развитии, между тем как он сам будет развиваться дальше, перестанет его удовлетворять. «О нет!» — нарек Готфрид. — «Этот небесный цветок, едва распустивший свои первые лепестки, уже сейчас благоухает так сладко. Что же будет, когда… пламенный летний луч мужской силы раскроет и внутренние лепестки цветка!» (стр. 40). На это непристойное сравнение Пауль принужден возразить, что доводами рассудка поэта не убедить. ««И все же вся ваша мудрость столь же мало защищает вас от превратностей судьбы, как наше милое безумие», — ответил с улыбкой Готфрид» (стр. 40). Что за трогательная картина — улыбающийся самому себе Нарцисс![125] Мешковатый кандидат внезапно выступает в качестве милого безумца, Пауль становится Вагнером[126], восторгающимся великим человеком, а великий человек «улыбается», «он даже улыбается мягко и дружески». Эффект достигнут. * * *Готфриду, наконец, удается покинуть Бонн. Достигнутым им там высотам ученой образованности он сам подводит такой итог: «От гегельянства я, к сожалению, отхожу все дальше и дальше; быть рационалистом — мое самое заветное желание, однако я в то же время являюсь супернатуралистом и мистиком, а в случае надобности даже и пиетистом» (стр. 45). К этому автопортрету прибавить нечего. Берлин. Октябрь 1834—август 1835 Из убогой семейной и студенческой обстановки Готфрид попадает в Берлин. Однако никаких следов влияния условий жизни большого города, — по крайней мере по сравнению с Бонном, — никаких признаков участия в тогдашнем научном движении мы не находим. Записи в дневнике Готфрида отмечают лишь душевные волнения, переживаемые им совместно с новым compagnon d'aventure {компаньоном по похождениям. Ред.}, Гуго Дюнвегом из Бармена, а также мелкие неприятности бедного богослова, денежные затруднения, потертые фраки, устройство в качестве рецензента и пр. Жизнь его протекает совершенно вне всякой связи с общественной жизнью города; она ограничивается исключительно кругом семьи Шлёссинг, в котором Дюнвег преспокойно сходит за мейстера Вольфрама {Вольфрама фон Эшенбаха. Ред.}, а Готфрид — за мейстера Готфрида, Страсбургского (стр. 67). Образ Элизы в его сердце бледнеет все больше и больше; Готфрид испытывает новое пикантное влечение к фрейлейн Марии Шлёссинг; к тому же он на беду узнает о помолвке Элизы с другим и в конце концов резюмирует свои берлинские настроения и стремления в «неясной тоске по женскому существу, которое полностью принадлежало бы ему». Однако нельзя же покинуть Берлин без непременного театрального эффекта. «Перед тем как ему. покинуть Берлин, старый Вейс» (режиссер) «еще раз ввел его внутрь театра. Странное чувство овладело юношей, когда приветливый старец, указывая на несколько пустых ниш в огромном зале, в котором были расставлены бюсты немецких драматургов, многозначительно сказал: «Еще есть свободные места!»» Место для платеновского последыша Готфрида, столь невозмутимо принимающего от старого скомороха воскуривание фимиама по поводу «будущего бессмертия», — это место действительно еще не занято. Бонн. Осень 1835—осень 1837 «Постоянно охваченный колебаниями между искусством, жизнью и наукой, работая во всех трех областях без определенных стремлений, он надеялся в каждой из них познать, достигнуть и даже создать столько, сколько возможно было при его нерешительности» (стр. 89). С сознанием того, что он является нерешительным дилетантом, Готфрид возвратился в Бонн. Ощущение собственного дилетантизма не помешало, разумеется, ему сдать экзамен на степень лиценциата и стать приват-доцентом Боннского университета. «Ни Шамиссо, ни Кнапп не приняли посланных им стихотворении в издаваемые ими альманахи[127], и это его очень огорчало» (стр. 99). Таковы первые попытки дебютировать на общественном поприще великого мужа, который в частном кругу все время живет в кредит под духовное обеспечение своего будущего величия. С этого момента он окончательно становится сомнительной местной величиной литературных студенческих кружков, пока причинивший ему легкое ранение выстрел в Бадене не производит его внезапно в герои немецкого мещанства. «В груди Кинкеля все больше и больше пробуждалась тоска по постоянной и верной любви — тоска, которую невозможно было заглушить никакой работой» (стр. 103). Первой жертвой этой тоски явилась некая Минна. Готфрид заигрывал с Минной и для разнообразия иногда выступал в качестве сострадательного Махадевы[128], позволяющего деве боготворить его и при этом размышляющего о ее здоровье. «Кинкель мог бы ее полюбить, если бы он был в состоянии обманываться насчет ее положения; но любовь его могла бы лишь ускорить гибель увядающей розы. Минна была первой девушкой, которая могла его понять; но она была бы для него второй Гекубой, рождающей не детей, а факелы, и пламя родителей сожгло бы через детей собственный дом, подобно тому как сгорела приамова Троя. Однако он не мог от нее оторваться, сердце его обливалось кровью из-за нее, он страдал не от любви, а от сострадания». Божественный герой, любовь которого, как лицезрение Юпитера, смертоносна, в действительности только пошлый, постоянно занятый собой фат, который при выборе невесты впервые пробует выступить в роли сердцееда. Больше того, тошнотворные рассуждения о болезненном состоянии и его последствиях для возможных детей превращаются в подлый расчет, поскольку связь эту он не прекращает, черпая в ней полное внутреннее самоудовлетворение, и лишь тогда прерывает ее, когда она дает ему повод для новой мелодраматической сцены. Готфрид отправляется к одному из своих дядюшек, у которого только что умер сын. У самого гроба, в жуткий полуночный час, разыгрывает он со своей кузиной, мадемуазель Элизой II, сцену во вкусе опер Беллини: обручается с ней «в присутствии покойника» и на следующее утро благополучно принимается дядюшкой в качестве будущего зятя. «Он часто также думал о Минне и о том мгновении, когда он должен будет вновь увидеть ее, навеки для нее потерянный; однако он не страшился этого мгновения, ибо она не могла предъявлять никаких притязаний на сердце, которое уже отдано другой» (стр. 117). Новое обручение преследовало лишь одну цель — привести отношения с Минной к драматической коллизии, в которой сталкиваются «долг и страсть». Коллизия эта проводится с подлинно филистерской низостью: добропорядочный мещанин даже перед самим собой отрицает законность притязания Минны на его сердце, которое «уже отдано другой». Добродетельного мужа, конечно, нисколько не смущает то обстоятельство, что даже этот трусливый самообман держится только на позднейшей подтасовке сроков «отдания сердца». И Готфрид оказывается перед интересной необходимостью разбить «бедное большое сердце». «После паузы Готфрид продолжал: «В то же время я чувствую, что должен, милая Минна, попросить у Вас прощения, — быть может, я согрешил перед Вами… Минна, рука эта, которую я Вам вчера так приветливо подал, — эта рука более не свободна — я обручен!»» (стр. 123). Мелодраматический кандидат теологии остерегается, однако, сказать ей, что обручение это произошло спустя несколько часов после того, как он ей «так приветливо» подал руку. «О боже!.. Минна, можете ли Вы простить меня?» (там же). «Я мужчина и должен оставаться верным своему долгу, — я не должен любить Вас! Но я Вас не обманывал» (стр. 124). После того как появился этот задним числом подстроенный добродетельный долг, остается только прибегнуть к невероятному, эффектно обернуть всю ситуацию, сделав так, что не Минна прощает его, а высоконравственный святоша прощает обманутую. С этой целью измышляется возможность того, что Минна «станет ненавидеть его издали», и к этому предположению пристегивается, в заключение, нижеследующая мораль: ««Это я Вам охотно прощаю, и если это случится, Вы можете быть заранее уверены в моем прощении. А теперь прощайте! Мой долг призывает меня, я вынужден покинуть Вас». И он медленным шагом вышел из беседки… С этого часа Готфрид почувствовал себя несчастным» (стр. 124). Комедиант и мнимый любовник превращается в лицемерного святошу, с елейным всепрощающим видом выпутывающегося из положения. Посредством выдуманных любовных осложнений Зигварт благополучно доходит до того, что может воображать себя несчастным. В конце концов выясняется, что все эти вымышленные любовные перипетии — не что иное, как кокетливая рисовка Готфрида перед самим собой. Все дело сводится к тому, что мечтающий о своем будущем бессмертии святоша перемешивает ветхозаветные сказания с модными фантазиями в духе Шписса, Клаурена и Крамера из «Библиотеки для чтения» и наслаждается, воображая себя романтическим героем. «Роясь в своих книгах, он наткнулся на новалисовского «Офтердингена»[129], который еще за год до того так часто его вдохновлял на поэтическое творчество. Еще когда он гимназистом вместе с несколькими товарищами основал кружок под названием «Тевтония», члены которого ставили своей целью сообща добиться понимания немецкой истории и литературы, он Принял псевдоним Генриха фон Офтердингена… Теперь для него стало ясным значение этого имени. Он казался самому себе тем Генрихом в милом городке у подножья Вартбурга, и тоска по «голубому цветку» охватила его с неудержимой силой. Но не Минне суждено было стать сияющим цветком из сказки и не его невесте, как ни вопрошал он свое сердце. Погрузившись в мечтания, он жадно продолжал читать, причудливый волшебный мир овладел им, и, наконец, он с плачем бросился в кресло, тоскуя по «голубому цветку»». Тут Готфрид выдает всю романтическую ложь, в которую он облекся; склонность к маскараду, стремление рядиться в чужие одежды — вот в чем, оказывается, его подлинная «внутренняя сущность». Подобно тому как он раньше называл себя Готфридом Страсбургским, так теперь он выступает в роли Генриха фон Офтердингена, и ищет он вовсе не «голубой цветок», а особу прекрасного пола, которая признала бы его в этой роли. Такой «голубой цветок», хотя и несколько увядший, он нашел в конце концов в некоей особе, разыгравшей с ним в его и своих интересах желанную комедию. Эта ложная романтика, эта пародия и карикатура на старые сказания и приключения, которые Готфрид, за недостатком собственных дарований, копирует у других — весь этот чувственный обман беспочвенных коллизий с Мариями, Миннами, Элизами I и II завел его так далеко, что ему кажется, будто он достиг высот гётевских переживаний. Подобно тому как Гёте после своих любовных бурь внезапно отправляется в Италию и там пишет свои «Элегии», так и Готфрид, после воображаемого опьянения любовью, считает себя теперь тоже вправе совершить путешествие в Рим. Гёте предчувствовал появление Готфрида: «Ведь даже у кита есть вши, — Италия. Октябрь 1837 — март 1838 Путешествие в Рим открывается в дневнике Готфрида пространным описанием переезда от Бонна до Кобленца. Новый период начинается совершенно так же, как закончился предыдущий, а именно — всесторонним применением чужих переживаний к собственной особе. На пароходе Готфрид припоминает «великолепный штрих Гофмана», который «заставляет своего мейстера Иоганнеса Вахта создать высокохудожественное произведение непосредственно после того, как он пережил величайшее горе»[131]. В подтверждение этого «великолепного штриха» Готфрид после «величайшего горя» по поводу Минны погружается в «размышления о давно задуманной трагедии» (стр. 140). Во время путешествия Кинкеля из Кобленца в Рим происходят следующие события: «Ласковые письма его невесты, которые он часто получал и на которые обычно немедленно отвечал, разогнали мрачные мысли» (стр. 144). «Любовь к прекрасной Элизе пустила глубокие корни в тоскующей груди юноши» (стр. 146). * * *В Риме происходит следующее событие: «По приезде в Рим Кинкель застал там письмо от невесты, еще более усилившее чувство любви к ней, и образ Минны стал все больше и больше отступать на задний план. Сердце ему подсказывало, что Элиза может сделать его счастливым, и он с чистым восторгом предавался этому чувству… Лишь теперь он научился любить» (стр. 151). Таким образом, Минна, которую он раньше любил только «из сострадания», вновь появляется на сцене его чувствований. Что касается отношений с Элизой, то он мечтает о том, что Элиза может сделать его счастливым, а не о том, чтобы дать ей счастье. А ведь в мечтах о «голубом цветке» он уже заранее предрекал, что тот сказочный цветок, по отношению к которому его разбирает столь поэтический зуд, не может воплотиться ни в Элизе, ни в Минне. Вновь пробудившиеся в нем чувства по отношению к обеим этим девушкам служат для того, чтобы создать ситуацию для нового конфликта: «В Италии муза Кинкеля, по-видимому, дремала» (стр. 151). Почему? «Потому что ему недоставало еще формы» (стр. 152). Впоследствии мы узнаем, что в результате шестимесячного пребывания в Италии он благополучно привез в Германию «форму». И так как Гёте написал свои «Элегии» в Риме, то Готфрид тоже сочинил элегию «Пробуждение Рима» (стр. 153). * * *На квартире у Кинкеля служанка вручает ему письмо от его невесты. С радостью вскрывает он его — «и, вскрикнув, опускается на свое ложе». «Элиза сообщает ему, что некий доктор Д., состоятельный человек, имеющий обширную практику и даже… верховую лошадь (!), посватался к ней, и так как пройдет еще не мало времени, покуда он, Кинкель, бедный богослов, создаст себе прочное положение, она просит его освободить ее от уз, которые их соединяют». Законченная реминисценция из «Человеконенавистничества и раскаяния»[132]. Готфрид «уничтожен», «ужасающее окаменение», «сухие очи», «чувство мести», «кинжал», «грудь соперника», «кровь сердца противника», «ледяной холод», «безумная боль» и пр. (стр. 156 и 157). В этих «горестях и радостях бедного богослова» несчастного кандидата терзает преимущественно мысль о том, что Элиза «пренебрегла» им ради «преходящих земных благ» (стр. 157). После того как Готфрид по всем правилам сценического искусства предается в течение некоторого времени вышеописанным чувствам, он находит, наконец, следующее возвышенное утешение: «Она была недостойна тебя, — и тебе ведь остаются крылья гения, которые высоко вознесут тебя над этим мрачным горем! И когда со временем слава твоя облетит земной шар, тогда изменница в собственном сердце найдет отмщение!.. Кто знает, быть может, пройдут годы, — и ее дети придут молить меня о помощи, и я не хотел бы преждевременно уклоняться от этого» (стр. 157). Здесь вслед за неизбежным предвкушением возвышенного наслаждения «будущей славой, которая облетит земной шар», наружу выступает низменный облик ханжи-филистера. Он рассчитывает на то, что, быть может, впоследствии поверженные в нищету дети Элизы придут молить великого поэта о милостыне, — «он не хотел бы преждевременно уклоняться от этого». Почему же? А потому, что «будущей славе», о которой Готфрид постоянно мечтает, Элиза «предпочла верховую лошадь», потому что ради «земных благ» она отвергла шутовскую комедию, которую ему хочется разыгрывать под именем Генриха фон Офтердингена. Еще старик Гегель правильно заметил, что благородное сознание всегда переходит в низменное[133]. Бонн. Лето 1838—лето 1843 (Коварство и любовь) После того как Готфрид в Италии пародировал в карикатурном виде Гёте, он по возвращении решил разыграть шиллеровское «Коварство и любовь». Несмотря на истерзанную, снедаемую мировой скорбью душу, Готфрид телесно чувствует себя «лучше, чем когда-либо» (стр. 167). Он замышляет «трудами создать себе литературное имя» (стр. 169), что ему, впрочем, не помешало впоследствии, когда «труды» не доставили ему литературного имени, добыть себе более дешевое имя без труда. «Смутное томление», с которым Готфрид постоянно гоняется за «существом женского пола», выражается в удивительно быстрой смене обещаний вступить в брак и обручений. Помолвка является классической формой, с помощью которой сильный человек и «будущий» возвышенный ум старается завоевать и привязать к себе возлюбленных. Как только он завидит голубой цветочек, с помощью которого он мог бы сыграть роль Генриха фон Офтердингена, нежные, туманные сентиментальные грезы поэта сгущаются в весьма явственные помышления кандидата дополнить идеальное сродство душ узами «долга». Эта мещанская погоня, в которой обручения чуть ли не после первого знакомства сыпятся на всех маргариток и лилий a tort et a travers {без разбора. Ред.}, делает еще более отвратительной ту кокетливую рисовку, с которой Готфрид непрестанно раскрывает сердце, дабы засвидетельствовать свою «великую муку поэта». Поэтому по возвращении из Италии Готфрид должен, конечно, снова «обручиться». На сей раз предмет его томления прямо указывается ему его сестрицей, той самой Иоганной, пиетистский фанатизм которой уже был увековечен ранее междометиями в дневнике Готфрида. «Бёгехольд на этих днях как раз объявил о своей помолвке с фрейлейн Кинкель, и Иоганна, назойливее чем когда-либо вмешивавшаяся в сердечные дела брата, в силу ряда причин и семейных соображений, о которых предпочтительнее умолчать, пожелала, — чтобы Готфрид со своей стороны женился на сестре ее жениха, фрейлейн Софии Бёгехольд» (стр. 172). «Кинкель» — само собой разумеется — «безусловно должен был почувствовать влечение к кроткой девушке… То была милая, невинная девушка» (стр. 173). «С необычайной нежностью» — это тоже само собой разумеется — «стал Кинкель добиваться ее руки, и осчастливленные родители радостно обещали ему ее, как только» — и это само собой разумеется — «он добьется в жизни прочного положения и сможет предоставить своей невесте» — что опять-таки само собой разумеется — «мирный профессорский или пасторский очаг». Тяготение к браку, проявляющееся во всех приключениях пылкого кандидата, в данном случае вылилось на бумаге в виде следующего изящного стишка: «Мне в жизни ничего не надо, Все остальное — очи, уста, кудри — он считает «суетой». «Мне этого всего не надо, Интрижку, которую он завязывает с фрейлейн Софией Бёгехольд по приказу «назойливой более чем когда-либо сестры Иоганны» и из постоянного щекочущего влечения к «ручке», он называет в то же время «глубокой, прочной и тихой» любовью (стр. 175), и, в частности, «религиозный элемент играл большую роль в этой новой любви» (стр. 176). Дело в том, что в любовных похождениях Готфрида религиозный элемент постоянно чередуется с элементами романическим и театральным. В тех случаях, когда Готфриду не удается путем драматических эффектов выставить себя в новой зигвартовской ситуации, он прибегает к религиозным чувствам, чтобы придать пошленьким историям более высокое значение. Зигварт становится благочестивым Юнг-Штиллингом[134], которому господь даровал столь чудесную силу, что три супруги погибли в его мужских объятиях, а он все еще мог вновь «сочетаться браком» с новой возлюбленной. * * *Мы приближаемся, наконец, к роковой катастрофе в этой богатой событиями жизни, к знакомству Штиллинга с Иоганной Моккель, разведенной Матьё. В ней Готфрид обрел Кинкеля женского пола, свое романтическое alter ego {второе «я». Ред.}, только потверже, поумнее, менее расплывчатое и ввиду зрелого возраста уже свободное от первых иллюзий. Общим у Моккель с Кинкелем было то, что оба они не были признаны светом. У нее была отталкивающая и вульгарная наружность; в первом браке она была «несчастлива». Она обладала музыкальным талантом, но недостаточным, чтобы своими произведениями или исполнительским мастерством составить себе имя. В Берлине она потерпела фиаско, когда попыталась подражать устарелым ребячествам Беттины {Арним. Ред.}. Испытания ожесточили ее характер. Если она, как и Кинкель, любила становиться в позу и безмерными преувеличениями придавать будничным событиям своей жизни «возвышенный» характер, то у нее с возрастом все же развилась более настоятельная «потребностью (по словам Штродтмана) в любви, нежели в поэтических разглагольствованиях о ней. То, что у Кинкеля было в этом отношении женским, у нее стало мужским. Вполне естественно поэтому, что такая особа с радостью пошла на то, чтобы разыграть с Кинкелем комедию непризнанного прекраснодушия вплоть до взаимноудовлетворяющего конца — признать Зигварта в его роли Генриха фон Офтердингена и позволить ему обрести себя в качестве «голубого цветка». Сразу же после того, как Кинкель с помощью своей сестры благополучно обручился не то в третий, не то в четвертый раз, Моккель заводит его в новый лабиринт любви. Готфрид находится в «волнах общества» (стр. 190), т. е. в одном из тех небольших профессорских, или иначе говоря «привилегированных кружков» немецкого университетского городка, какие могут составить веху лишь в жизни христианско-германского кандидата. Моккель поет и наслаждается аплодисментами. За столом Готфрида сажают рядом с ней — и тут разыгрывается следующая сцена. ««Испытываешь, должно быть, восхитительное чувство, — сказал Готфрид, — когда при всеобщем восторге паришь на крыльях гения над радостным миром». — «Так Вам кажется, — с волнением возразила Моккель. — Я слышала, что у Вас прекрасный поэтический дар; быть может, Вам также станут воскуривать фимиам… и тогда я Вас спрошу, счастливы ли Вы, если Вы не…» — «Если я не?.. — переспросил Готфрид, когда она запнулась» (стр. 188). Мешковатому кандидату, склонному к лирике, была закинута удочка. После этого Моккель сообщает ему, что недавно «слышала его проповедь о скорби Христовой и подумала, насколько прекрасный юноша отрекся от мира, если он даже в ней пробудил тихое томление по невинному сну души, который некогда навевали на нее утраченные звуки веры» (стр. 189). Готфрид был «очарован» (стр. 189) этой любезностью. Ему было необычайно приятно «убедиться в том, что Моккель несчастлива» (там же). И он тут же решает «своей горячей, вдохновенной верой в спасение через Иисуса Христа» «вновь завоевать… также и эту скорбящую человеческую душу» (там же). Так как Моккель католичка, то отношения завязываются под тем вымышленным предлогом, что во имя «служения всемогущему» предстоит завоевать человеческую душу, — комедия, на которую идет также и Моккель. * * *«В течение 1840 г. Кинкель был также назначен помощником пастора евангелической общины в Кёльне, куда он стал ездить каждое воскресное утро для чтения проповедей» (стр. 193). Это замечание биографа побуждает нас сказать несколько слов по поводу позиции Кинкеля в теологии. «В течение 1840 г.» критика успела уже самым беспощадным образом разложить содержание христианства, научное…{8} в лице Бруно Бауэра вступило в открытое столкновение с государством. В этот период Кинкель и выступает в качестве проповедника. Но, не обладая, с одной стороны, энергией ортодокса, а с другой, способностью объективно подойти к теологии, он вступает в сделку с христианством посредством сентиментально-лирической декламации а ±а Круммахер, изображая Христа в качестве «друга и учителя», пытаясь отбросить все «некрасивое» в форме христианства и подменяя его содержание пустой фразеологией. Эта манера подменять содержание формой, мысль — фразой породила в Германии целый ряд попов-декламаторов, которые, естественно, должны были найти свое последнее прибежище в демократии. Если в теологии иногда все же требовались хотя бы поверхностные знания, то в демократии пустая фразеология нашла, напротив, свое полное применение — здесь бессодержательная звонкая декламация, nullite sonore {пустозвонство. Ред.}, совершенно вытесняет смысл и понимание вопроса. Кинкель, богословские занятия которого не повели его далее сентиментальных извлечений из христианского учения, изложенных в духе Клаурена, в речах и писаниях своих являл образец этого пастырского краснобайства, которое иногда также именовалось «поэтической прозой» и которым он курьезным образом пытался обосновать свое «поэтическое призвание». Его поэтическое творчество состояло, впрочем, [не]{9} в насаждении подлинных лавров, а в разведении волчьих ягод, которыми он украшал свою торную дорожку. Та же слабохарактерность, стремление разрешать конфликты не по существу, а посредством удобной формы, проявляется и в его позиции в качестве доцента университета. Он уклоняется от борьбы со старым профессиональным педантизмом тем, что держится «как бурш», благодаря чему доцент превращается в студента, а студент возвышается до приват-доцента. Из этой школы и вышло целое поколение Штродтманов, Шурцев и подобных им субъектов, которые смогли в конце концов применить свою фразеологию, свои познания и свое легковесное «высокое призвание» только в лоне демократии. * * *Новые любовные отношения приняли теперь характер сказочки о петушке, курочке{10} и яичке. 1840 год явился поворотным пунктом в истории Германии. С одной стороны, критическое применение философии Гегеля к теологии и политике революционизировало науку; с другой стороны, с вступлением на престол Фридриха-Вильгельма IV началось движение буржуазии, конституционалистские стремления которой выглядели в то время еще вполне радикальными. От туманной «политической поэзии» того времени совершился переход к новому явлению — революционному могуществу периодической печати. Что же делал в это время Готфрид? Моккель основала вместе с ним «Maikafer, eine Zeitschrift fur Nicht-Philister» {«Майский жук, журнал для не-филистеров». Ред.} и «Союз майских жуков». Листок этот «имел целью лишь доставлять раз в неделю тесному дружескому кругу веселый, и приятный вечер, а также давать участникам возможность представлять свои произведения на суд благожелательных и любящих искусство критиков» (стр. 219). Действительной целью «Союза майских жуков» было разрешение загадки о голубом цветке. Заседания происходили в доме Моккель и должны были в кругу заурядных, занимающихся беллетристикой студентов возвеличить Моккель в роли «королевы» (стр. 210), а Кинкеля в роли «министра» (стр. 255). Обе непризнанные прекрасные души нашли возможность вознаградить себя сторицей в «Союзе майских жуков» за «несправедливость, причиненную им бездушным светом» (стр. 296). Они могли воздавать друг другу должное в избранных ими ролях Генриха фон Офтердингена и голубого цветка, и Готфрид, у которого выступление в чужих ролях стало второй натурой, должен был чувствовать себя счастливым, когда ему, наконец, удалось создать настоящий «любительский театр» (стр. 254). Сама эта шутовская комедия служила вместе с тем вступлением к практическим действиям: «Вечера эти дали ему возможность посещать Моккель также в доме ее родителей» (стр. 212). Прибавим к этому, что «Союз майских жуков» был подражанием гёттингенскому «Союзу рощи»[135], с той только разницей, что последний составил целую эпоху в развитии немецкой литературы, между тем как «Союз майских жуков» остался лишенной всякого значения провинциальной карикатурой. Согласно признанию самого биографа-апологета, «верные майские жуки» (стр. 254) в лице Себастьяна Лонгарда, Лео Хассе, К. А. Шлёнбаха и других были бесцветными, пошлыми, ленивыми и пустыми буршами (стр. 211 и 298). * * *Готфрид, разумеется, вскоре стал «мысленно сравнивать» (стр. 221) свою невесту и Моккель, но «пока что не имел времени для» — в общем столь привычного для него — «прозаического размышления по поводу свадьбы и брака» (стр. 219). Словом, он, подобно буриданову ослу, находился в нерешительности между двумя охапками сена. Однако Моккель, умудренная опытом и обладавшая более практическими наклонностями, «ясно узрела невидимые узы» (стр. 225); она решила прийти на помощь «случаю или божественному предначертанию» (стр. 229). «Однажды, в такое время дня, когда научные преподавательские занятия обычно не позволяли Готфриду видеться с Моккель, он отправился к ней и, тихо подойдя к ее комнате, услышал звуки жалобного пения. Он стал внимать песне: «Ты близишься, и мне как будто Длительный и печальный аккорд заключил ее пенье и медленно замер в воздухе» (стр. 230 и 231). Готфрид незаметно, как ему казалось, выскальзывает обратно; придя домой, он находит, что создалась весьма интересная ситуация, и начинает писать отчаянные сонеты, в которых сравнивает Моккель с Лорелеей[136] (стр. 233). Чтобы скрыться от Лорелеи и сохранить верность фрейлейн Софии Бёгехольд, он пытается найти место преподавателя в Висбадене, но получает отказ. К вышеописанному случаю прибавилось еще другое предначертание, на этот раз решающее. Не только «солнце стремилось от знака Девы» (стр. 236), но и Готфрид с Моккель совершали прогулку в «челне по Рейну», причем проходивший мимо пароход перевернул челн и Готфрид поплыл к берегу, держа в объятиях Моккель. «Когда он, прижимая к сердцу спасенную, приближался к берегу, его впервые осенило сознание, что только эта женщина могла даровать ему блаженство» (стр. 238). На этот раз Готфриду удалось, наконец, пережить не воображаемую, а действительную сцену из романа «Избирательное сродство»[137]. Это и решило вопрос. Он расстается с Софией Бёгехольд. * * *После любви — коварство. От имени консистории пастор Энгельс заявляет Готфриду, что брак с разведенной женщиной, притом католичкой, недопустим для него, Готфрида, протестантского священника. Готфрид ссылается на неотъемлемые права человека, выдвигая с немалой долей елея следующие пункты: 1. «Нет ничего преступного в том, что он с той дамой пил кофе в ресторане «Хирцекюмпхе»» (стр. 249). 2. «Вопрос еще не решен, ибо он публично до сих пор еще не заявлял ни о том, что он намерен сочетаться браком с названной дамой, ни о том, что такого намерения не имеет» (стр. 251). 3. «Что касается вопроса вероисповедания, то неизвестно, что покажет будущее» (стр. 250). «А теперь прошу Вас зайти ко мне и выкушать чашку кофе» (стр. 251). С этой репликой Готфрид в сопровождении пастора Энгельса, который не в силах противиться приглашению, покидает сцену. Так властно и так мягко умел Готфрид разрешать конфликты с существующими условиями. * * *Для характеристики того, какое воздействие должен был оказать на Готфрида «Союз майских жуков», приводим следующее место: «Было 29 июня 1841 года. В этот день должен был быть торжественно отпразднован первый юбилей «Союза майских жуков»» (стр. 253). «Когда вопрос зашел о том, кому присудить награду, решение последовало единодушно. Готфрид скромно преклонил колена перед королевой, возложившей неизбежный лавровый венок на его пылающее чело, между тем как заходящее солнце бросало жгучие лучи на просветленный лик поэта» (стр. 285). К этому пышному приобщению Генриха фон Офтердингена к воображаемой поэтической славе голубой цветок поспешил присоединить и свои собственные чувства и пожелания. В этот вечер Моккель исполнила положенный на музыку ею самой гимн «Союза майских жуков», заканчивавшийся следующей строфой, в которой резюмировалась вся цель «Союза»: «Какой же извлечем урок? Простодушный биограф замечает по этому поводу, что «содержащееся в этой строфе приглашение к вступлению в брак было совершенно непреднамеренным» (стр. 255). Однако Готфрид понял это намерение, «но не хотел преждевременно уклоняться» от того, чтобы еще в течение двух лет его в «Союзе майских жуков» увенчивали лаврами и с обожанием ухаживали за ним. На Моккель он женился 22 мая 1843 г., после того как она, несмотря на то, что была неверующей, перешла в протестантское вероисповедание под нелепым предлогом, будто «протестантская церковь построена не столько на определенных символах веры, сколько на этических понятиях» (стр. 315). * * *«А вот еще один урок: Готфрид вступил в связь с Моккель под предлогом обращения ее от неверия к протестантской церкви. Но теперь Моккель требует штраусовскую «Жизнь Иисуса»[138] и вновь впадает в неверие, «и со щемящим сердцем последовал он за ней по стезе сомнений в бездну отрицания. Вместе с ней он стал прокладывать себе дорогу в запутанном лабиринте новой философии» (стр. 308). Итак, не развитие философии, уже оказывавшее в то время влияние на массы, а случайные настроения приводят его к отрицанию. Что же извлек он из этого лабиринта философии, видно из его собственного дневника: «Посмотрим, однако, не отбросит ли меня могучее течение от Канта до Фейербаха к пантеизму!!» (стр. 308). Как будто это течение не выводит как раз за пределы пантеизма, как будто Фейербах представляет собой последнее слово немецкой философии! «Краеугольным камнем моей жизни», — сказано далее в дневнике, — «является не историческое познание, а незыблемая система, и ядром теологии является не история церкви, а догматика» (там же). Как будто немецкая философия как раз не растворила незыблемые системы в историческом познании, а догматические ядра — в истории церкви! В этих признаниях с полной ясностью выступает вся контрреволюционность демократа, для которого само движение является лишь средством добраться до нескольких неопровержимых вечных истин — гнилых точек покоя. Читателю же предоставляется на основании вышеприведенной апологетической бухгалтерии Готфрида самому судить обо всем его духовном развитии и о том, какой революционный элемент был скрыт в этом мелодраматически-актерствовавшем богослове. II Так заканчивается первый акт жизни Кинкеля, и до начала февральской революции в ней нет больше ничего примечательного. Издательство Котта взялось выпустить его стихи без уплаты гонорара; большая часть издания так и осталась лежать на складе, пока пресловутое ранение в Бадене не придало автору поэтического ореола и не создало рынка для его произведений. Впрочем, об одном характерном факте биограф умалчивает. По собственному признанию Кинкеля, пределом его желаний было умереть старым директором театра. Идеалом ему представляется некий Эйзенхут, странствующий скоморох, путешествовавший со своей труппой то вверх, то вниз по Рейну и в конце концов помешавшийся. Помимо лекций в Бонне, преисполненных пастырского красноречия, Готфрид и в Кёльне время от времени устраивал теологические и эстетические художественные представления. Он закончил их, когда вспыхнула февральская революция, следующим прорицанием: «Гром сражения, раскаты которого доносятся до нас из Парижа, знаменует собой и для Германии, и для всего европейского континента начало нового прекрасного времени. За ревом бури следует блаженное дуновение зефира свободы; отныне начинается великая, благословенная эра — эра конституционной монархии». Конституционная монархия отблагодарила Кинкеля за этот комплимент тем, что произвела его в экстраординарные профессора. Это признание не могло, однако, удовлетворить grand homme en herbe {«Майский жук, журнал для не-филистеров». Ред.}. Конституционная монархия, по-видимому, отнюдь не торопилась дать «его славе облететь земной шар». К тому же лавры, которые принесли Фрейлиграту новые политические стихотворения, не давали спать увенчанному «майскими жуками» поэту. И вот Генрих фон Офтердинген сделал поворот налево и стал сперва конституционным демократом, а затем и республиканским демократом (honnete et modere {добропорядочным и умеренным. Ред.}). Он метил в депутаты, но на майских выборах не попал ни в Берлин, ни во Франкфурт. Невзирая на эти первые неудачи, он продолжал, однако, добиваться своей цели и, можно сказать, ему пришлось немало потрудиться. С мудрой сдержанностью действовал он сперва лишь в своем небольшом провинциальном округе. Он основал газету «Bonner Zeitung», скромное местное растеньице, отличавшееся лишь особенной бесцветностью демократической декламации и наивностью спасающего отечество невежества. Он возвысил «Союз майских жуков» до степени демократического студенческого клуба, из которого вскоре вышел тот сонм учеников, который распространял славу учителя по всем селениям боннского округа и навязывал каждому собранию г-на профессора Кинкеля. Сам он разглагольствовал о политике в казино с владельцами бакалейных лавок, братски пожимал руку честным ремесленникам и распространял свое пылкое свободолюбие даже среди крестьян в Кинденихе и Зельшейде. Но с совершенно особой симпатией он относился к почтенному сословию ремесленников. Вместе с ними он оплакивал падение ремесла, жестокие последствия свободной конкуренции, современное господство капитала и машин. Вместе с ними он строил планы возрождения цехового строя и уничтожения биржевой спекуляции, и, чтобы свершить все, что он задумал, он изложил итоги своих имевших место в казино бесед с мелкими хозяйчиками в брошюре «Спасайся, ремесло!»[139] Дабы всякому сразу стало ясно, где собственно место г-на Кинкеля и какое по-франкфуртски национальное значение имеет его произведеньице, он посвятил его «тридцати членам экономической комиссии франкфуртского Национального собрания». Исследования Генриха фон Офтердингена о «красоте» в сословии ремесленников тут же привели его к выводу, что «сословие ремесленников в данный момент совершенно раскололось» (стр. 5). Этот раскол состоит именно в том, что некоторые ремесленники «посещают казино бакалейщиков и чиновников» (какое достижение!), а другие не посещают, а также в том, что некоторые ремесленники получили образование, а другие не получили его. Несмотря на этот раскол, автор все же усматривает благоприятный признак в том, что в любезном отечестве повсеместно устраиваются союзы и собрания ремесленников, а также в том, что идет агитация за улучшение положения ремесленного сословия (вспомните «винкельблехиады» 1848 года[140]). Чтобы внести и свою лепту в виде доброго совета в это благотворное движение, он излагает свою программу спасения. Прежде всего автор рассматривает вопрос о том, каким образом путем ограничений можно избавиться от дурных сторон свободной конкуренции, отнюдь, впрочем, не отменяя ее полностью. При этом он приходит к следующим выводам: «Законодательство должно воспрепятствовать тому, чтобы мастерами становились не обладающие еще достаточным искусством и необходимой зрелостью юноши» (стр. 20). «У каждого мастера может быть лишь один ученик» (стр. 29). «Для обучения ремеслу также необходимо сдать экзамен» (стр. 30). «На экзамене обязательно должен присутствовать мастер, у которого будет учиться экзаменующийся» (стр. 31). «Для обеспечения необходимой зрелости мы требуем от законодательства, чтобы отныне никто не мог стать мастером, прежде чем ему исполнится двадцать пять лет» (стр. 42). «Для обеспечения достаточного искусства мы требуем, чтобы отныне каждый начинающий мастер подвергался экзамену и притом публичному» (стр. 43). «При этом чрезвычайно важно, чтобы экзамен был совершенно бесплатный» (стр. 44). Этим экзаменам должны «также подвергаться все мастера данной профессии, проживающие в сельской местности» (стр. 55). Друг Готфрид, сам торгующий вразнос политикой, желает отменить «торговлю бродячую или вразнос» другими мирскими товарами как бесчестную (стр. 60). «Производитель ремесленных изделий стремится извлечь свое состояние из дела с выгодой для себя и в ущерб своим обманываемым кредиторам. Такие действия, как и все двусмысленное, обозначают иностранным именем: их называют банкротством. Для этого он быстро перебрасывает свои готовые изделия в соседние местности и немедленно сбывает их тому, кто предлагает наибольшую цену» (стр. 64). Эти распродажи— «собственно своего рода нечистоты, которые наш любезный сосед, торговое сословие, выливает в сад ремесленников», — необходимо отменить. (Не гораздо ли проще было бы, друг Готфрид, вырвать зло с корнем и сразу отменить само банкротство?) «С ярмарками, конечно, иное дело» (стр. 65). «При этих обстоятельствах законодательство должно предоставить отдельным местностям решать самим большинством голосов (!) на совещании всех граждан, которое должно быть для этого созвано, сохранить или отменить постоянные ярмарки» (стр. 68). Готфрид переходит затем к сложному «спорному вопросу» об отношении между ремеслом и машинным трудом и выдвигает при этом следующие положения: «Пусть каждый, кто продает готовые изделия, держит лишь товар, который он может производить собственными руками» (стр. 80). «Так как машины и ремесло отделились друг от друга, то оба пришли в упадок и сбились с пути» (стр. 84). Объединить их он хочет таким путем, чтобы ремесленники — например переплетчики данного города — образовали ассоциацию и сообща держали бы машину. «И так как они будут пользоваться машиной только для себя и только для выполнения заказов, они могут производить дешевле, нежели владеющий фабрикой купец» (стр. 85). «Капитал можно сломить ассоциацией» (стр. 84) (а ассоциацию можно сломить капиталом). Свою мысль «о приобретении машины для линования, для обравнивания и для резания картона» (стр. 85) объединившимися дипломированными переплетчиками Бонна он затем обобщает до идеи «машинной палаты». «Союз объединенных цеховых мастеров соответствующей профессии должен повсюду устроить предприятия, напоминающие фабрики мелких купцов, с тем чтобы предприятия эти работали исключительно над выполнением заказов местных мастеров и не принимали никаких заказов от других работодателей» (стр. 86). Отличительной чертой такой машинной палаты является то, что «коммерческое ведение дела необходимо» только «вначале» (там же). «Всякая мысль, столь же новая, как и предлагаемая», — восклицает «упоенный» этой мыслью Готфрид, — «прежде чем она будет осуществлена, нуждается в самом спокойном и практическом продумывании, вплоть до мельчайших подробностей». Он призывает «заняться этим обдумыванием каждое ремесло для себя в отдельности» (стр. 87, 88). Сюда же приплетены полемика против конкуренции со стороны государства, использующего труд заключенных, реминисценции о колонии преступников («создание человечной Сибири», стр. 102), а также выпады против «так называемых ремесленных рот и ремесленных комиссий» при военном ведомстве. Разумеется, военное бремя, лежащее на ремесленном сословии, следует смягчить, для чего нужно, чтобы государство заказывало снаряжение ремесленникам по более дорогой цене, нежели та, по которой оно само может его производить. «Таким образом, отпадают вопросы конкуренции» (стр. 109). Второе основное положение, к которому затем переходит Готфрид, это — материальная поддержка, которую государство должно оказывать ремесленному сословию, Готфрид, рассматривающий государство исключительно с точки зрения чиновника, придерживается того мнения, что ремесленнику легче всего помочь ссудами из государственной казны на устройство ремесленных палат, касс взаимопомощи и пр. Откуда государственная казна должна получать эти средства, здесь, конечно, не рассматривается, ибо это ведь «некрасивая» сторона вопроса. Напоследок наш богослов не может, конечно, вновь не впасть в роль проповедника нравственности и не прочесть сословию ремесленников назидательную лекцию о том, каким образом оно само может себе помочь. Сперва речь идет о «жалобах на долгосрочные займы и вычеты» (стр. 136), причем от ремесленника требуется ответить по совести на такого рода вопрос: «Сохранишь ли ты, мой друг, одинаковые и неизменные расценки за каждую работу, которую ты выполняешь?» (стр. 132). По этому случаю ремесленник особо предупреждается, чтобы он не назначал чрезмерных цен «богатым англичанам». «Корень всего зла», — мудро решает эту головоломку Готфрид, — «заключается в годичных расчетах» (стр. 139). Затем следуют сетования по поводу страсти жен ремесленников к нарядам и привязанности самих ремесленников к пивным (стр. 140 и далее). Средства же, которыми ремесленное сословие само может улучшить свое положение, таковы: «цехи, больничные кассы, ремесленный третейский суд» (стр. 146) и, наконец, рабочие просветительные общества (стр. 153). За последнее слово таких просветительных обществ выдается следующее: «Наконец, пение в сочетании с декламацией перекидывает мост к драматическому представлению и к театру ремесленников, который необходимо постоянно иметь в виду как конечную цель этих эстетических стремлений. Только тогда, когда трудящиеся классы вновь научатся выступать на сцене, их художественное воспитание будет завершено» (стр. 174, 175). Таким образом, Готфрид благополучно превратил ремесленника в комедианта и тем самым опять свел вопрос к самому себе. Все это заигрывание с цеховыми стремлениями боннских ремесленников имело, однако, свой практический результат. Клятвенно обещав содействовать восстановлению цехов, друг Готфрид добился того, что был избран депутатом от Бонна в октроированную вторую палату[141]. «С этого мгновения Готфрид почувствовал себя» счастливым. Он немедленно отправился в Берлин, и так как он полагал, что правительство намерено учредить в лице второй палаты постоянный «цех» дипломированных законодателей, он там устроился как на постоянное жительство, решив выписать к себе жену и ребенка. Однако палату распустили, и Готфрид после непродолжительных парламентских наслаждении вернулся в горестном разочаровании к Моккель. Вскоре после этого разразился конфликт между правительствами и Франкфуртским собранием и вслед за этим начались движения в Южной Германии и на Рейне. Отечество призвало— и Готфрид последовал его зову. В Зигбурге находился цейхгауз ландвера — и Зигбург был тем местом, где, как и в Бонне, Готфрид чаще всего сеял семена свободы. Поэтому он в союзе со своим другом, отставным лейтенантом Аннеке, призвал всех своих последователей к походу на Зигбург. Местом сбора был перекидной мост. Явиться должно было больше сотни человек. Но когда, после долгого ожидания, Готфрид пересчитал своих молодцов, их оказалось едва-едва тридцать, и в том числе — к вечному позору «Союза майских жуков» — всего-навсего три студента! Тем не менее Готфрид вместе со своей горсткой людей бесстрашно переходит Рейн и прямо направляется на Зигбург. Ночь была темна и дождлива. Вдруг позади храбрецов раздается конский топот. Храбрецы прячутся в стороне от дороги, мимо них скачет патруль улан. Жалкие негодяи выболтали тайну: власти были предупреждены, поход не удался, — пришлось поворачивать обратно. Горе, стеснившее в эту ночь грудь Готфрида, можно сравнить лишь с той болью, которую он ощутил, когда и Кнапп и Шамиссо отказались дать приют его первым поэтическим излияниям в своих альманахах муз. После всего, что случилось, оставаться в Бонне было для него немыслимо. Но разве Пфальц не представлял собой для него широкого поля деятельности? Он отправился в Кайзерслаутерн, и так как надо же было дать ему какую-нибудь должность, то ему и дали синекуру в военном департаменте (говорят, ему поручили управление морскими делами[142]). Хлеб же он зарабатывал себе, по привычке торгуя вразнос свободой и народным благом среди окрестных крестьян, причем, по слухам, в некоторых реакционных округах это окончилось для него не совсем благополучно. Несмотря на эти мелкие невзгоды, Кинкеля можно было видеть бодро шагающим по столбовым дорогам с дорожной сумкой за плечами, — и с этих пор все газеты изображают его с этим неизменным атрибутом. Однако движение в Пфальце быстро закончилось, и мы видим Кинкеля снова в Карлсруэ, причем вместо дорожной сумки у него на плече мушкет, который отныне становится его постоянным отличительным знаком. Как рассказывают, у этого мушкета была исключительно красивая сторона, а именно — приклад и ложа из красного дерева. Во всяком случае, это был эстетский, художественный мушкет. Некрасивой стороной его было, впрочем, то, что друг Готфрид не умел ни заряжать, ни прицеливаться, ни стрелять, ни маршировать. Поэтому один из приятелей спросил его: зачем же, собственно, он рвется в бой, — на что Готфрид возразил: «А как же, в Бонн возвратиться я не могу, — нужно же мне жить!». Итак, Готфрид вступил в ряды воинов, в отряд рыцарственного Виллиха. С этого времени, как нас стараются убедить многие товарищи Готфрида по оружию, он разделял все превратности судьбы, испытанные этим отрядом, держась скромно и как рядовой доброволец, приветливый и ласковый как в хорошие, так и в дурные времена, однако большей частью проводя время на телеге для отставших. А при Раштатте[143] этому истинному поборнику правды и справедливости пришлось подвергнуться тому испытанию, из которого он впоследствии — на удивление всему немецкому народу — вышел незапятнанным мучеником. Подробности этого события до сих пор точно не установлены — уверяют только, что когда группа добровольцев во время перестрелки сбилась с дороги, по ней было сделано несколько выстрелов с флангов, при этом шальная пуля слегка задела голову Готфрида; он упал с возгласом: «Я убит!». Хотя убит он не был, но отступать вместе с остальными не мог; его препроводили в крестьянский домик, где он заявил простодушным обитателям Шварцвальда: «Спасите меня — я известный Кинкель!». Кончилось это тем, что здесь его застали пруссаки и увели в вавилонский плен. III Со времени пленения в жизни Кинкеля начался новый период, открывающий в то же время новую эру в истории развития немецкого мещанства. Как только в «Союзе майских жуков» узнали, что Кинкель попал в плен, «Союз» обратился во все немецкие газеты с письмами о том, что великому поэту Кинкелю угрожает опасность быть расстрелянным военно-полевым судом и что германский народ, в частности образованные слои его, в особенности же жены и девы, обязаны приложить все силы для того, чтобы спасти жизнь плененного поэта. Сам он, как уверяют, сочинил в это время стихотворение, в котором сравнивал себя со «своим другом и учителем Христом» и говорил о самом себе: кровь моя прольется за вас. С этого времени атрибутом его становится лира. Таким образом, Германия внезапно узнала, что Кинкель был поэтом, великим поэтом, и с этого мгновения вся масса немецкого мещанства и эстетствующих слюнтяев некоторое время принимала участие в разыгрываемой нашим Генрихом фон Офтердингеном комедии о голубом цветке. Тем временем пруссаки предали его военному суду. Это дало ему повод впервые после долгого перерыва вновь обратиться с трогательным призывом к слезным железам своих слушателей, как это он столь успешно, по свидетельству Моккель, делал в бытность свою помощником пастора в Кёльне, причем опять-таки Кёльну суждено было вскоре вновь насладиться наиболее блестящими его достижениями на этом поприще. Он произнес перед военным судом защитительную речь, которая позже, благодаря нескромности одного из его друзей, была, увы, доведена берлинской «Abend-Post» также до сведения широкой публики. В этой речи Кинкель «протестует» «против отождествления моих действий с грязью и мутью, которая, я знаю это, к сожалению, пристала напоследок к революции»[144]. После этой в высшей степени революционной речи Кинкель был приговорен к двадцати годам заключения в крепости; последняя, впрочем, была милостиво заменена исправительной тюрьмой. Он был переведен в Наугард {Польское название: Новогард. Ред.}, где, как говорят, его заставляли прясть шерсть, — вот почему вместо дорожной сумки, затем мушкета, затем лиры его атрибутом отныне становится прялка. Впоследствии мы увидим, как он переплывает океан с новым атрибутом — мошной. Между тем в Германии произошло удивительное событие. Немецкий мещанин, прекраснодушный, как известно, по самой своей природе, жестоко разочаровался благодаря тяжелым ударам 1849 г. в своих сладчайших иллюзиях. Ни одна из надежд его не сбылась, и даже в бурно вздымающейся груди юноши стали зарождаться сомнения относительно судеб отечества. Тоскливое уныние овладело всеми сердцами, и всюду стали жаждать демократического Христа, действительного или воображаемого мученика, который с кротостью агнца в скорби своей нес бы грехи мещанского мира и в страданиях которого в острой форме воплотилась бы дряблая хроническая тоска всех филистеров. «Союз майских жуков» во главе с Моккель взялся за удовлетворение этой повсеместно назревшей потребности. И в самом деле, кто мог быть более подходящим для исполнения этой великой комедии страстей, как не плененный страстоцвет Кинкель с его прялкой, этот неиссякаемый источник слез и трогательнейших переживаний, соединивший, кроме того, в одном лице проповедника, профессора эстетики, депутата, бродячего торговца политикой, мушкетера, новоявленного поэта и старого театрального директора? Кинкель был героем времени, и, как таковой, он был немедленно принят немецким миром филистеров. Все газеты пестрели анекдотами, характеристиками, стихами, реминисценциями плененного поэта. Его страдания в тюрьме изображались в безмерно преувеличенном, сказочном виде; газеты, по меньшей мере раз в месяц, сообщали о том, что его голова покрылась сединой; во всех бюргерских клубах и на всех вечерах о нем вспоминали с прискорбием. Девушки из образованных сословий вздыхали над его стихами, а старые девы, познавшие томление страсти, оплакивали в разных городах отечества его угасающую мужскую силу. Все прочие, простые жертвы движения, расстрелянные, павшие, плененные, исчезали перед единым жертвенным агнцем, перед мужем, покорившим сердца филистеров мужского и женского пола, и лишь о нем проливались потоки слез, на которые, впрочем, он один и был в состоянии должным образом ответствовать. Словом, то был настоящий демократический зигвартовский период, ни на волос не уступавший литературному зигвартовскому периоду прошлого столетия; и Зигварт-Кинкель никогда не чувствовал себя так хорошо, как в этой роли, в которой он казался великим не тем, что он делал, а тем, чего не делал, великим не силой и сопротивлением, а слабостью и безвольной покорностью, и в которой единственная его задача состояла в том, чтобы терпеть с достоинством и чувством. Умудренная же опытом Моккель сумела извлечь практическую выгоду из этой мягкотелости публики и немедленно развернула в высшей степени энергичную предпринимательскую деятельность. Она затеяла новое издание всех напечатанных и ненапечатанных произведений Готфрида, которые вдруг приобрели ценность и вошли в моду, и широко рекламировала их среди публики. Она воспользовалась случаем для того, чтобы пристроить и свои собственные опыты из мира насекомых, как, например, «Историю светлячка». За кругленькую сумму она позволила «майскому жуку» Штродтману выставить на потребу публики интимнейшие откровения из дневника Готфрида. Она организовывала всякого рода сборы и, проявив несомненную предпринимательскую ловкость и большую настойчивость, сумела превратить мягкие чувства образованного общества в твердые талеры. При этом она вдобавок еще испытывала удовлетворение, получив возможность «ежедневно видеть в своей маленькой комнатке величайших людей Германии, например Адольфа Штара». Однако высшей точки это зигвартовское помешательство достигло во время заседаний суда присяжных в Кёльне, на которых весной 1850 г. гастролировал Готфрид. Здесь был устроен процесс о попытке нападения на Зигбург, и Кинкеля перевели в Кёльн. Поскольку в настоящем очерке выдержки из дневников Готфрида играют такую значительную роль, будет вполне уместно, если мы приведем здесь также отрывок из дневника одного из очевидцев. «Жена Кинкеля навестила его в тюрьме. Она приветствовала его через решетку в стихах, он отвечал, если не ошибаюсь, гекзаметром. Затем оба пали на колени друг перед другом и находившийся тут же тюремный надзиратель, старый фельдфебель, не мог понять, имеет ли он дело с сумасшедшими или с комедиантами. Впоследствии на вопрос обер-прокурора, о чем говорилось при свидании, надзиратель заявил, что хотя они и говорили по-немецки, тем не менее он не понял ни одного слова. На это г-жа Кинкель якобы заметила, что нельзя же назначать надзирателем человека, совершенно необразованного в литературном и художественном отношении». Перед присяжными Кинкель выступил исключительно в роли источника слез, или литератора зигвартовского периода времен «Страданий молодого Вертера»[145]. ««Господа судьи, господа присяжные… глаза-незабудки моих детей… зеленые воды Рейна… нет ничего унизительного в том, чтобы пожать руку пролетария… бледные уста заключенного… живительный воздух родных мест» и прочая чепуха — так выглядела вся эта прославленная речь, над которой и публика, и присяжные, и прокуратура, и даже жандармы проливали горькие слезы, и судебное заседание закончилось единогласным оправданием под всеобщие вздохи и стенанья. Кинкель, конечно, хороший, милый человек, но в остальном это приторная смесь религиозных, политических и литературных реминисценций». У автора этих строк, видимо, лопнуло терпение. К счастью, этот горестный период очень скоро закончился романтическим освобождением Кинкеля из шпандауской тюрьмы. При этом освобождении повторилась история Ричарда Львиное сердце и Блонделя[146], только в данном случае Блондель сидел в тюрьме, а Львиное сердце играл во дворе на шарманке, и к тому же Блондель был просто заурядным рифмоплетом, а Львиное сердце в сущности был труслив как заяц. Львиным сердцем был студент Шурц из «Союза майских жуков», интриган, наделенный большим честолюбием и малыми способностями, достаточными, однако, для того, чтобы составить себе ясное представление о «немецком Ламартине». Вскоре после истории с освобождением студент Шурц заявил в Париже, что используемый им Кинкель, как он отлично знает, конечно, не lumen mundi {светоч мира. Ред.}, между тем как именно он, Шурц, и не кто иной, призван быть будущим президентом германской республики. Этому-то человечку, одному из тех студентов «в коричневых фраках и светло-голубых плащах», за которыми уже некогда следили «сверкающие мрачным огнем очи Готфрида», удалось освободить Кинкеля, правда, принеся в жертву беднягу тюремщика, который теперь отбывает за это заключение с чувством высокого сознания, что он является мучеником за свободу… Готфрида Кинкеля! IV В Лондоне мы встречаем Кинкеля вновь, и на сей раз, благодаря его тюремной славе и слезливости немецкого мещанства, в качестве величайшего человека Германии. Друг Готфрид в сознании своей высокой миссии сумел использовать все выгоды момента. Романтическое освобождение дало новый толчок восторженному увлечению Кинкелем на родине — увлечению, которое, будучи весьма ловко направлено по нужному пути, не преминуло дать материальные плоды. В то же время мировой город открывал прославленному герою новое обширное поприще для того, чтобы вновь пожать лавры. Ему было ясно: он должен был сделаться героем сезона. С этой целью он на время отказался от всякой политической деятельности и, запершись дома, прежде всего позаботился о том, чтобы снова отрастить себе бороду, без которой не может обойтись ни один пророк. Затем он побывал у Диккенса, в редакциях английских либеральных газет, у немецких коммерсантов Сити, главным образом у тамошних эстетствующих евреев. Он был идеалом для всех: для одного — поэтом, для другого — патриотом вообще, для третьего — профессором эстетики, для четвертого — Христом, для пятого — царственным страдальцем Одиссеем, но для всех одинаково кротким, артистическим, благожелательным и гуманным Готфридом. Он не успокоился до тех пор, пока Диккенс не прославил его в «Household Words» и пока в «Illustrated News»[147] не поместили его портрета. Он поднял на ноги тех немногих лондонских немцев, которые и на чужбине принимали участие в кинкелевском похмелье, якобы для того, чтобы получить приглашение прочесть лекции о современной драме, причем билеты на эти лекции целыми пачками рассылались немецким коммерсантам на дом. Он не пренебрегал ни беготней, ни трескучей рекламой, ни шарлатанством, ни назойливыми приставаниями, ни пресмыкательством перед этой публикой. Зато и успех был полный. Готфрид самодовольно упивался собственной славой, любовался своим отражением в огромном зеркале Хрустального дворца[148] и чувствовал себя, можно сказать, необыкновенно хорошо. Лекции его получили признание (см. «Kosmos»[149]). «Kosmos». Лекции Кинкеля «Когда я как-то смотрел туманные картины Дёблера, мне пришла в голову курьезная мысль — можно ли создать такие хаотические произведения при помощи «слова», можно ли рассказать туманные картины? Правда, неприятно, когда критик с первых же слов должен признаться, что в таком случае критическая свобода вибрирует в гальванизированных нервах волнующей реминисценции, точно затихающий звук замирающей на трепетных струнах ноты. Поэтому я предпочел отказаться от скучного педантического анализа ученой бесчувственности, нежели от того резонанса, который пленительная муза германского эмигранта родила в игре идей моей чувствительности. Этот основной тон кинкелевских образов, эту реминисценцию его аккордов составляет звучное, творческое, созидательное, постепенно оформляющееся «слово» — «современная мысль». Человеческая сила «суждения» этой мысли выводит истину из хаоса лживых традиций и ставит ее в качестве неприкосновенной всеобщей собственности под защиту интеллектуально развитых, логически мыслящих меньшинств, которые ведут ее от верующего невежества к неверующей учености. На долю ученого неверия выпадает профанировать мистицизм благочестивого обмана, подрывать всемогущество погрязшей в предрассудках традиции, обезглавливать при помощи скепсиса — этой без устали работающей философской гильотины — авторитеты и выводить посредством революции народы из тумана теократии на цветущие поля демократии» (бессмыслицы). «Настойчивое и усердное изучение летописей человечества, как и самих людей, является величайшей задачей всех участников переворота, и это ясно осознал тот изгнанный мятежный поэт, который в течение трех прошедших понедельников по вечерам развивал перед буржуазной публикой свои «dissolving views» {«разрушительные воззрения». Ред.}, рисуя историю современного театра». «Рабочий» Все утверждали, что уже по выражениям: «сфера резонанса», «затихающий звук», «аккорд» и «гальванизированные нервы», можно было догадаться, что этим рабочим была весьма близкая родственница Кинкеля — Моккель. Но и этому периоду в поте лица доставшегося самолюбования тоже не суждено было длиться вечно. Судный день существующего миропорядка, страшный суд демократии, достославный месяц май 1852 г.[150] все больше приближался. Чтобы встретить этот великий день во всеоружии, Готфрид Кинкель должен был вновь облачиться в политическую львиную шкуру, завязать сношения с «эмиграцией». Здесь мы переходим к лондонской «эмиграции» — этой мешанине из бывших членов Франкфуртского парламента, берлинского Национального собрания и палаты депутатов, героев баденской кампании, титанов, разыгравших комедию с имперской конституцией[151], литераторов без читателей, крикунов из демократических клубов и конгрессов, газетных писак десятого сорта и т. п. Великие мужи Германии 1848 года были на грани бесславного конца, когда победа «тиранов» принесла им избавление, выкинув их за границу и сделав из них мучеников и святых. Их спасла контрреволюция. Политическое развитие на континенте привело большинство из них в Лондон, ставший, таким образом, их европейским центром. Само собой разумеется, что при таком положении вещей этим освободителям мира необходимо было что-то делать, что-то предпринимать, чтобы изо дня в день вновь и вновь напоминать публике о своем существовании. Надо было любой ценой воспрепятствовать тому, чтобы создалось впечатление, будто мировая история может двигаться вперед и без помощи этих гигантов. Чем больше это человеческое отребье оказывалось неспособным — как из-за собственной беспомощности, так и из-за существующих условий — совершать какое-нибудь действительное дело, тем ревностнее ему нужно было заниматься своей бесполезной призрачной деятельностью, воображаемые акты которой, воображаемые партии, воображаемые битвы и воображаемые интересы столь напыщенно возвещались ее участниками. Чем более бессильно было оно действительно вызвать новую революцию, тем больше приходилось ему лишь мысленно дисконтировать эту будущую возможность, заранее распределять посты и наслаждаться предвкушением власти. Эта полная фанфаронства бурная деятельность вылилась в организацию общества взаимного страхования на звание великих мужей и взаимного гарантирования будущих правительственных постов. V Первая попытка создания подобной «организации» была сделана уже весной 1850 года. В то время по Лондону распространялся написанный высокопарным стилем «Проект циркуляра немецким демократам. На правах рукописи», вместе с «Сопроводительным письмом к вождям». В этом циркуляре и сопроводительном письме содержался призыв к созданию единой демократической церкви. Ближайшей целью выдвигалось создание Центрального бюро по делам немецкой эмиграции[152], для совместного управления делами эмигрантов, организация типографии в Лондоне, объединение всех фракций против общего врага. После этого эмиграция должна была вновь стать руководящим центром движения внутри страны, организация эмиграции должна была положить начало широкой организации демократии. Те из выдающихся личностей, которые не располагали средствами, должны были в качестве членов Центрального бюро оплачиваться за счет обложения немецкого народа. Такое обложение казалось тем более уместным, что «немецкая эмиграция прибыла за границу не только без сколько-нибудь значительного героя, но также, — что гораздо хуже, — без общего капитала»). При этом не скрывалось, что существовавшие уже венгерские, польские и французские комитеты послужили образцами для этой «организации», и через весь документ проскальзывает некоторая зависть к этим выдающимся союзникам, занимающим более выгодное положение. Этот циркуляр явился совместным произведением гг. Рудольфа Шрамма и Густава Струве, за спиной которых скрывался, в качестве члена-корреспондента, светлый образ проживавшего тогда в Остенде г-на Арнольда Руге. Г-н Рудольф Шрамм— сварливый, болтливый, чрезвычайно сумбурный манекен, избравший своим жизненным девизом цитату из «Племянника Рамо»: «Я скорее согласен быть нахальным болтуном, нежели вовсе не быть»[153]. Г-н Кампгаузен в период расцвета своей власти охотно предоставил бы молодому развязному крефельдцу ответственный пост, если бы такое возвышение простого референдария не противоречило приличиям. Из-за бюрократического этикета г-ну Шрамму оставалась открытой лишь демократическая карьера. На этом поприще он однажды и в самом деле попал в председатели Демократического клуба в Берлине, и впоследствии при поддержке нескольких депутатов левой был избран депутатом от Штригау {Польское название: Стшегом. Ред.} в берлинское Национальное собрание. Здесь обычно столь словоохотливый Шрамм отличался упорным молчанием, сопровождаемым, однако, постоянным брюзжанием. После разгона Учредительного собрания этот народный деятель демократии написал конституционно-монархическую брошюру, однако вновь избран не был. Позже, при правительстве Брентано, он вынырнул на короткое время в Бадене и там, в «Клубе решительного прогресса»[154], познакомился со Струве. По приезде в Лондон он объявил, что хочет отказаться от всякой политической деятельности, а посему выпустил немедленно вышеупомянутый циркуляр. В сущности неудавшийся бюрократ, г-н Шрамм воображает, принимая во внимание семейные связи, что он представляет в эмиграции радикальную часть буржуазии, и на самом деле не без успеха изображает собой карикатуру на радикального буржуа. Густав Струве принадлежит к числу более значительных фигур эмиграции. Его лицо, напоминающее сафьян, его выпученные, глуповато лукавые глаза, его мягко светящаяся лысина, его славянско-калмыцкие черты сразу изобличают в нем человека необыкновенного, причем впечатление это еще более усиливается благодаря глуховатому гортанному голосу, прочувствованной, елейной речи и напыщенной важности манер. Впрочем, воздавая должное истине, надобно отметить, что наш Густав, поскольку в наше время для каждого человека все труднее становится отличиться, старался выделиться среди своих сограждан хотя бы тем, что выступал в роли то пророка, то афериста, то мозольного оператора, превращая самые причудливые занятия в свою основную профессию и пропагандируя всевозможные нелепости. Так ему, в качестве уроженца России, внезапно пришло в голову воодушевиться идеей борьбы за свободу Германии, и это произошло после того, как он побыл на какой-то сверхштатной должности при русском посольстве в Союзном сейме[155] и написал небольшую брошюрку в защиту последнего. Так как он свой собственный череп считал образцом нормального человеческого черепа, он стал увлекаться краниоскопией и с тех пор питал доверие лишь к тому, чей череп он предварительно ощупал и изучил. Кроме того, он перестал употреблять мясо и стал проповедовать евангелие исключительно растительной пищи. Был он также и предсказателем погоды, ревностным противником курения табака и деятельно агитировал в пользу моральных принципов немецкого католицизма[156], равно как и в пользу водолечения. При его глубокой ненависти ко всякому положительному знанию он, конечно, увлекался идеей свободных университетов, в которых, вместо предметов обычных четырех факультетов[157], должны были преподаваться краниоскопия, физиогномика, хиромантия и некромантия. Вполне в его духе было и то чрезвычайное упорство, с которым он пытался стать великим писателем, — разумеется, именно по той причине, что манера его писания противоречила всему, что может быть названо стилем. Уже в начале 40-х годов Густав основал «Deutscher Zuschauer»[158] — издававшийся им в Мангейме листок, на который он взял патент и который, точно навязчивая идея, всюду преследовал его. Кроме того, он уже тогда сделал открытие, что обе книги, являющиеся для него Ветхим и Новым заветом, а именно «Всеобщая история» Роттека и «Словарь политических наук» Роттека и Велькера[159], не соответствуют более духу времени и нуждаются в новом, демократическом, издании. Переработка эта, за которую Густав немедленно принялся, выпустив предварительно отрывок под названием «Основы политических наук»[160], стала «с 1848 г. неотложной необходимостью, ибо покойный Роттек не использовал опыта последних лет». Тем временем вспыхнули одно за другим те три баденских «народных восстания», историческое описание которых как центрального пункта всего современного мирового движения дано самим Густавом[161]. Попав сразу же после геккеровского восстания в изгнание и едва успев возобновить выпуск своей газеты «Deutscher Zuschauer», он испытал тяжелый удар — оказалось, что мангеймский издатель тамошнего «Deutscher Zuschauer» продолжает выпускать его под редакцией другого лица. Борьба между подлинным и самозванным «Deutscher Zuschauer» была столь ожесточенной, что в ней погибли обе газеты. Зато Густав составил конституцию германской федеративной республики. согласно которой Германия должна была быть разделена на двадцать четыре республики, каждая со своим президентом и двумя палатами. К конституции была приложена тщательно составленная карта, на которую было нанесено точное территориальное деление. В сентябре 1848 г. началось второе восстание, в котором наш Густав объединял в одном лице Цезаря и Сократа. Он использовал то время, в течение которого ему удалось вновь побывать на немецкой земле для того, чтобы привести шварцвальдским крестьянам убедительные доказательства вреда табака. В Лёррахе он издавал вестник под названием: «Правительственный орган. Германское свободное государство. Свобода, благосостояние, просвещение»[162]. Орган этот поместил на своих столбцах, между прочим, следующий декрет: «Статья 1. Введенная 10-процентная дополнительная пошлина на ввозимые из Швейцарии товары отменяется. Статья 2. На управляющего таможней, Христиана Мюллера, возлагается проведение в жизнь настоящего постановления». Его верная Амалия делила с ним все невзгоды и впоследствии живописала их в романтических красках. Кроме того, она принимала участие в приведении к присяге пленных жандармов, а именно каждому, присягнувшему на верность германскому свободному государству, прикрепляла красный нарукавный знак и затем заключала его в объятия. К сожалению, Густав и Амалия были взяты в плен и томились в темнице, где неунывающий Густав немедленно стал продолжать свое республиканское переложение роттековой «Всеобщей истории», пока, наконец, третье восстание не вернуло ему свободы. Тогда Густав стал членом действительного временного правительства, и с тех пор к его прочим навязчивым идеям прибавилась еще мания временных правительств. В должности председателя военного совета он поспешил по возможности запутать дела вверенного ему ведомства и предложил в военные министры «предателя» Майерхофера (см. Гёгг. «Ретроспективный взгляд…». Париж, 1850[163]). Впоследствии он тщетно стремился стать министром иностранных дел и получить 60 тысяч флоринов в свое распоряжение. Г-н Брентано вскоре вновь освободил нашего Густава от бремени власти, и Густав возглавил оппозицию в «Клубе решительного прогресса». Особенно охотно он обращал эту оппозицию против таких мероприятий Брентано, которые сам ранее поддерживал. Хотя этот клуб и был разогнан и Густаву пришлось эмигрировать в Пфальц, бедствие это имело ту хорошую сторону, что неизбежный «Deutscher Zuschauer» вновь смог выйти единственным номером в Нёйштадтена-Хардте, что вознаградило Густава за многие незаслуженно перенесенные им страдания. Дальнейшим утешением явилось то, что на дополнительных выборах в каком-то захолустном местечке Верхнего Бадена его избрали членом баденского Учредительного собрания, так что он получил возможность вернуться в Баден в качестве официального лица. В этом собрании Густав отличился лишь тремя внесенными во Фрейбурге предложениями: 1) от 28 июня: объявить предателем всякого, кто захочет вступить в переговоры с неприятелем; 2) от 30 июня: назначить новое временное правительство, в котором Струве был бы полноправным членом; 3) по отклонении последнего предложения, в тот же самый день: после того как неудачное сражение при Раштатте сделало бесполезным дальнейшее сопротивление, следует избавить население Верхнего Бадена от ужасов войны и для этого необходимо выдать всем чиновникам и солдатам жалованье за десять дней вперед, а членам Учредительного собрания оплатить десятидневное содержание и путевые расходы, и затем под звуки труб и с барабанным боем переправиться в Швейцарию. Когда и это предложение было отклонено, Густав самостоятельно пробрался в Швейцарию, а будучи изгнан оттуда палочными ударами Джемса Фази, очутился в Лондоне, где объявил о новом открытии, а именно о шести бичах человечества. Этими шестью бичами были монархи, дворянство, попы, бюрократия, постоянная армия, денежный мешок и клопы. В каком духе Густав перерабатывал покойного Роттека, можно видеть из другого его открытия, будто денежный мешок является изобретением Луи-Филиппа. Об этих шести бичах Густав стал теперь писать проповеди в «Deutsche Londoner Zeitung»[164] — газете бывшего герцога Брауншвейгского, за что получал приличный гонорар и потому с благодарностью подчинялся цензуре господина герцога. Таково отношение Густава к первому из бичей — к монархам. Что касается отношения его ко второму бичу — к дворянству, то наш религиозно-нравственный республиканец заказал себе визитные карточки, на которых он именовался «бароном фон Струве». Если ему не удалось вступить в столь же дружественные отношения и с другими бичами, то это не по его вине. Затем Густав употребил свои лондонские досуги на составление республиканского календаря, в котором вместо имен святых приводились имена людей твердых убеждений, — и особенно часто блестящие имена «Густав» и «Амалия», месяцы были обозначены переделанными на немецкий лад названиями французского республиканского календаря, и имелось еще много столь же общеполезных, сколь и общих мест. Впрочем и в Лондоне опять появились все те же излюбленные навязчивые идеи — о возобновлении «Deutscher Zuschauer» и «Клуба решительного прогресса» и об учреждении временного правительства. По всем этим пунктам он встретил полное согласие со стороны Шрамма, и таким образом возник циркуляр. Третий член этого союза, великий Арнольд Руге, выделяется из всей прочей эмиграции благодаря своему облику, напоминающему вахмистра, который все еще ожидает назначения на гражданскую должность. Нельзя сказать, чтобы сей рыцарь отличался особо приятной внешностью. Парижские знакомые обычно называли его померанско-славянские черты мордочкой куницы (figure de fouine). Арнольд Руге, сын крестьянина с острова Рюгена, мученик, проведший в прусских тюрьмах семь лет за участие в происках демагогов[165], очертя голову ринулся в объятия гегелевской философии, как только узнал, что достаточно перелистать гегелевскую «Энциклопедию»[166], чтобы избавиться от необходимости изучать все остальные науки. Кроме того, он придерживался правила, которое он изложил в одной новелле и старался распространить среди своих друзей, — бедняга Гервег может об этом кое-что рассказать, — а именно того правила, что и в браке следует реализовать себя, поэтому еще в молодые годы он создал себе женитьбой «субстанциальную основу». С помощью своих гегельянских фраз и «субстанциальной основы» ему удалось сделаться привратником немецкой философии, а в качестве такового он был обязан возвещать как в «Hallische Jahrbucher», так и в «Deutsche Jahrbucher»[167] о восходящих светилах и восхвалять их; пользуясь этим, ом довольно ловко эксплуатировал их в литературном отношении. К сожалению, вскоре наступил период философской анархии, тот период, когда в науке больше не было общепризнанного короля, когда Штраус, Б. Бауэр, Фейербах сражались друг с другом и когда разнообразнейшие чуждые друг другу элементы стали затуманивать ясную простоту классической доктрины. Тут наш Руге растерялся, он не знал, куда податься; его и так бессвязные гегелевские категории совершенно смешались, и он вдруг почувствовал превеликую тоску по мощному движению, в котором не так уж важно, как мыслить и писать. В «Hallische Jahrbucher» Руге играл ту же роль, что покойный книгоиздатель Николаи в старой «Berlinische Monatsschrift»[168]. Подобно ему, Руге видел свое главное призвание в том, чтобы печатать чужие работы и извлекать из них как материальную выгоду, так и литературный материал для собственных духовных излияний. Однако этому переписыванию статей своих сотрудников, этому процессу литературного пищеварения, вплоть до его неизбежного конечного результата, наш Руге умел придавать гораздо большее значение, нежели его предшественник. В этом отношении Руге был не привратником немецкого просвещения, а Николаи современной немецкой философии и он умел скрывать прирожденную пошлость своего ума за густым терновником спекулятивных словесных оборотов. Подобно Николаи, он доблестно боролся против романтики как раз потому, что Гегель в своей «Эстетике» критически, а Гейне в «Романтической школе» литературно давно с ней покончили[169]. Однако, в отличие от Гегеля, он сходился с Николаи в том, что в качестве противника романтики воображал себя вправе выставлять как совершенный идеал пошлое филистерство и прежде всего — свою собственную филистерскую фигуру. С этой целью, а также для того, чтобы одолеть врага в его собственной сфере, Руге сочинял и стихи, пресная скука которых, превосходящая достижения любого из голландцев, надменно бросалась в лицо романтикам как вызов. Впрочем, наш померанский мыслитель в сущности не особенно хорошо чувствовал себя в гегелевской философии. Если он и был силен в усматривании противоречий, то тем менее он был способен разрешать их и питал весьма понятное отвращение к диалектике. Поэтому и случилось, что в его догматическом мозгу грубейшие противоречия мирно уживались рядом, а его и без того крайне неповоротливое мышление чувствовало себя как нельзя лучше в таком смешанном обществе. С ним иногда бывало, что он переваривал на свой лад одновременно две статьи различных авторов и сплавлял их в новое произведение, не замечая, что статьи эти написаны с совершенно противоположных точек зрения. Постоянно застревая в противоречиях, он выпутывался с помощью того, что выдавал перед теоретиками слабость своего мышления за практический образ мысли, а перед практиками, наоборот, свою практическую беспомощность и непоследовательность — за высшее достижение теоретической мысли, — ив конечном счете заявлял, что именно это застревание в неразрешимых противоречиях, эта некритическая хаотичная вера в содержание всяких модных фраз и есть «убеждение». Прежде чем последовать за нашим Морицем Саксонским, как Руге любил называть себя в тесном кругу, в его дальнейших жизненных перипетиях, укажем на две его характерные черты, проявившиеся уже во времена «Jahrbucher». Первая из них — страсть к манифестам. Как только кто-либо придумывал какую-либо новую точку зрения, для которой Руге усматривал некоторое будущее, он выпускал манифест. Так как никто не укорял его в том, что он когда-либо был повинен в какой-либо оригинальной мысли, то подобный манифест всегда давал ему удобный повод отстаивать — в более или менее напыщенной форме — нечто новое как свое собственное и на этом основания одновременно пытаться образовать партию, фракцию, «массу», которая стояла бы за ним и при которой он мог бы исполнять обязанности вахмистра. Впоследствии мы увидим, до какой невероятной степени совершенства Руге довел это изготовление манифестов, прокламаций и пронунциаменто. Вторая его особенность — это то своеобразное прилежание, в котором Арнольд является непревзойденным мастером. Так как он не любит помногу заниматься изучением наук, или, как он выражается, «переписывать из одной библиотеки в другую», он предпочитает «черпать из живой жизни», т. е. с величайшей добросовестностью отмечать каждый вечер все, что приходит в голову, все «курьезы», новые идеи и прочие сведения, которые он в течение дня услышал, прочитал или подхватил. Все это затем, смотря по надобности, используется как материал для заданного урока, который Руге ежедневно проделывает с такой же добросовестностью, как и прочие естественные отправления. Почитатели его поэтому обычно говорят, что он страдает недержанием чернил. Совершенно безразлично, о чем идет речь в этом ежедневном продукте писательского труда, главное в том, что любую тему Руге поливает одним и тем же удивительным соусом стиля, который подходит ко всему решительно, точно так же, как англичане с одинаковым удовольствием приправляют своим «соусом Суайе» или своим уорикским соусом рыбу, птицу, котлеты и всякую иную пищу. Этот ежедневный стилистический понос Руге предпочитает называть «проникновенно-прекрасной формой» и видит в этом достаточное основание, чтобы выдавать себя за «художника». Хотя Руге и был доволен своим положением привратника немецкой философии, в глубине души его все же глодал червь. Он не написал еще ни одной толстой книги и каждый день завидовал счастливцу Бруно Бауэру, который еще в молодые годы выпустил восемнадцать увесистых томов. Чтобы устранить эту несправедливость, Руге стал печатать одну и ту же статью трижды под разными заглавиями в одном и том же томе и затем издавать один и тот же том в разнообразнейших форматах. Таким образом возникло собрание сочинений Арнольда Руге, аккуратно переплетенные экземпляры которого автор до сих пор перебирает по утрам, том за томом, у себя в библиотеке, с удовлетворением приговаривая: «А ведь у Бруно Бауэра все же нет убеждений!». Если Арнольду так и не удалось постичь философию Гегеля, то сам он, напротив, явился воплощением одной из гегелевских категорий. Он удивительно верно представил собой «честное сознание» и тем более утвердился в этом, когда в «Феноменологии»[170], которая, впрочем, осталась для него книгой за семью печатями, сделал приятное открытие, что «честное сознание» всегда доставляет радость самому себе. Это «честное сознание» скрывает под назойливой добродетелью все мелкие вероломные повадки и привычки филистера. Оно вправе разрешать себе всякую подлость, ибо знает, что оно подло из честности. Сама глупость становится достоинством, так как является неопровержимым доказательством твердости убеждений. Всякая задняя мысль его поддерживается убеждением во внутренней прямоте, и чем тверже «честное сознание» задумывает какой-либо обман или мелочную подлость, тем более простодушно и доверительно оно может выступать. Все мелкие пороки мещанина в ореоле честного намерения превращаются в его добродетели, гнусный эгоизм предстает в приукрашенном виде, в виде якобы принесения жертвы, трусость рисуется в виде храбрости в высшем смысле слова, низость становится благородством, а грубые развязные мужицкие манеры преображаются в проявления прямодушия и хорошего расположения духа. Сточный желоб, в котором удивительным образом смешиваются все противоречия философии, демократии и, прежде всего, фразерства, и к тому же малый, щедро одаренный всеми порочными, подлыми и мелкими качествами отпущенного на волю крепостного, мужика: хитрецой и глупостью, жадностью и неповоротливостью, раболепием и надменностью, лживостью и простодушием; филистер и идеолог, атеист и верующий во фразу, абсолютный невежда и абсолютный философ в одном лице, — таков наш Арнольд Руге, каким Гегель предсказал его еще в 1806 году. После запрещения «Deutsche Jahrbucher» Руге перевез в специально для этого сооруженном экипаже свою семью в Париж. Его несчастная судьба свела его там с Гейне, и тот приветствовал в нем человека, который «перевел Гегеля на померанский язык». Гейне спросил его, не является ли Пруц его псевдонимом, против чего Руге добросовестно протестовал. Однако Гейне нельзя было разубедить в том, что наш Арнольд является автором пруцевских стихов. Впрочем, Гейне очень скоро заметил, что если Руге и не обладает талантом, зато с успехом носит личину сильного характера, и вышло так, что наш друг Арнольд внушил поэту мысль об Атта Троле[171]. Если А. Руге и не ознаменовал свое пребывание в Париже великим произведением, ему все же по праву принадлежит та заслуга, что Гейне сделал это за него. В благодарность за это поэт посвятил ему известную эпитафию: «Атта Троль, медведь с уклоном Хоть плохой плясун, но с строем В Париже приключилось с нашим Арнольдом то, что он спутался с коммунистами и стал печатать в «Deutsch-Franzosische Jahrbucher» статьи Маркса и Энгельса[172], в которых говорилось прямо противоположное тому, что возвещалось им самим в предисловии. На эту беду обратила его внимание аугсбургская «Allgemeine Zeitung», но он перенес это с философским смирением. Чтобы возместить природное неумение держаться в обществе, наш Руге выучил для пересказа по своему усмотрению небольшое количество забавных анекдотов, называемых им «курьезами». Долголетняя привычка оперировать этими «курьезами» привела к тому, что мало-помалу для него все события, обстоятельства и отношения стали превращаться в приятные или неприятные, хорошие или дурные, важные или неважные, интересные или скучные курьезы. Парижская суета, множество новых впечатлений, социализм, политика, Пале-Рояль[173], дешевые устрицы — все вместе так подавляюще подействовало на несчастного, что в голове его водворилась постоянная и неизлечимая курьезная сутолока и Париж сделался для него неисчерпаемым арсеналом курьезов. Сам он, между прочим, дошел до такого курьеза, что предлагал изготовлять одежду для пролетариев из опилок; да и вообще у него была слабость к промышленным курьезам, для которых он разыскивал, всегда безуспешно, акционеров. Когда из Франции выслали немцев, игравших более или менее заметную роль в политике, Руге спасся от этой участи, представившись министру Дюшателю в качестве savant serieux {солидного ученого. Ред.}. Должно быть, он при этом имел в виду «ученого» из польдекоковского «Поклонника луны», который объявил себя ученым на том основании, что умел по-особенному стрелять пробками в воздух[174]. Вскоре после этого Арнольд отправился в Швейцарию, где встретился с бывшим голландским унтер-офицером, кёльнским провинциальным писателем и прусским мелким налоговым чиновником К. Гейнценом. Обоих вскоре связали узы близкой дружбы. Гейнцен учился у Руге философии, Руге у Гейнцена — политике. С этого времени у Руге возникает настоятельная потребность выступать в качестве философа par excellence {по преимуществу. Ред.} лишь перед более невежественными элементами немецкого движения. Судьба заставляла его опускаться в этом отношении все ниже, пока в конце концов его не стали считать философом лишь священники, принадлежавшие к «Друзьям света»[175] (Дулон), немецко-католические пастыри (Ронге), да Фанни Левальд. Тем временем анархия в немецкой философии усиливалась с каждым днем. Штирнеровский «Единственный»[176], социализм, коммунизм и пр. — все новые самозванные пришельцы — невыносимо увеличивали сутолоку в голове Руге. Необходимо было решиться на какой-нибудь серьезный шаг. Вот тут-то Руге и нашел спасение под сенью гуманизма, т. е. той фразы, которой все путаники в Германии, от Рейхлина до Гердера, прикрывали свою растерянность. Фраза эта казалась тем более своевременной, что Фейербах только что «вновь открыл человека», и Арнольд уцепился за нее с таким отчаянием, что до сего часа не может от нее оторваться. Однако в Швейцарии Арнольд сделал еще одно несравненно более важное открытие, а именно, «что повторным появлением перед публикой «я» утверждает себя как характер». С этого момента для Арнольда открывается новое поле деятельности. Он возводит в принцип самую наглую развязность и навязчивость. Руге должен был во всем принимать участие, всюду совать свой нос. Ни одна курица не могла снести яйца без того, чтобы Руге не «проредактировал разум» этого «события»[177]. Во что бы то ни стало нужно было поддерживать связь с каким-нибудь провинциальным листком, где могло бы происходить «повторное появление». Ни одной газетной статьи он больше не писал без того, чтобы не поставить под ней свое имя и не сказать в ней, по мере возможности, о себе самом. Этот принцип «повторного появления» должен был распространяться на каждую статью; она печаталась сначала в виде письма в европейских и (со времени переезда Гейнцена в Нью-Йорк) в американских газетах, затем — в виде брошюры и, наконец, еще раз повторялась в собрании сочинений. В таком вооружении наш Руге мог возвратиться в Лейпциг, чтобы заставить окончательно признать себя в качестве «характера». Но и здесь он нашел не одни только розы. Его старый приятель книгоиздатель Виганд с большим успехом заменил его в роли Николаи, и так как не было никаких вакантных должностей, Руге погрузился в мрачные размышления по поводу суетности всех и всяких «курьезов». И вдруг разразилась германская революция. В ней наш Арнольд нашел неожиданное спасение. Началось, наконец, мощное движение, в котором и самый неповоротливый легко может плыть по течению, и Руге немедленно направился в Берлин, надеясь поудить там рыбку в мутной воде. Поскольку там только что разразилась революция, он счел наиболее своевременным выступить с предложением реформы. Он основал листок под таким же названием[178]. Выходившая до революции парижская «Reforme»[179] была самой бездарной, самой невежественной и скучной газетой во Франции. Берлинская «Reform» доказала, что можно перещеголять даже ее парижский прообраз и что даже в «метрополии разума» можно без стеснения преподносить немецкой публике столь немыслимую газету. На том основании, что свойственная Руге риторическая тяжеловесность является якобы наилучшей гарантией глубины скрывающихся за ней мыслей, Арнольд был избран представителем Бреславля {Польское название: Вроцлав. Ред.} во Франкфуртский парламент. Там он немедленно нашел возможность выступить в качестве редактора демократической левой с нелепым манифестом. Проявив себя в остальном лишь своими бреднями о манифестах от имени конгрессов европейских народов, он ревностно присоединился к общему пожеланию о том, чтобы Пруссия растворилась в Германии. Впоследствии, вернувшись в Берлин, он требовал, чтобы Германия растворилась в Пруссии, а Франкфурт — в Берлине, а когда ему, под конец, пришло в голову стать саксонским пэром, он потребовал, чтобы Германия и Пруссия растворились в Дрездене. Его парламентская деятельность не принесла ему никаких лавров, наоборот, его собственная партия разочаровалась в нем, убедившись в его неповоротливости и неспособности. В то же время дела его «Reform» шли все хуже и хуже, и он считал, что может поправить их лишь своим личным присутствием в Берлине. В качестве «честного сознания», он, само собой разумеется, нашел высокополитический предлог для своего ухода и предложил также и всей левой выйти из парламента вместе с ним. Этого, конечно, не произошло, и Руге отправился в Берлин один. В Берлине он сделал открытие, что современные конфликты легче всего разрешаются по «дессаускому образцу», как он окрестил маленькое образцовое демократически-конституционное государство. Потом, во время осады Вены, он сочинил новый манифест, призывавший генерала Врангеля выступить на защиту Вены от Виндишгреца. Санкцию демократического конгресса[180] для этого уникального документа он приобрел под тем предлогом, будто манифест вместе с подписью уже набран и отпечатан. Наконец, когда и сам Берлин очутился в осадном положении, г-н Руге отправился к Мантёйфелю и сделал ему ряд предложений относительно «Reform», которые были, однако, отклонены. Мантёйфель признался ему, что не может пожелать себе лучших оппозиционных газет, нежели «Reform», — «Neue Preusische Zeitung»[181] много опаснее и т. д., — высказывание, которое наивный Руге с победоносным видом поспешил распространить по всей Германии. В то же время Арнольд увлекся пассивным сопротивлением[182] и оказал его на деле, покинув на произвол судьбы газету, сотрудников и все прочее и поспешно обратившись в бегство. Очевидно, активное бегство является наиболее решительной формой пассивного сопротивления. Контрреволюция наступала и Руге бежал от нее без оглядки от Берлина до самого Лондона. Во время майского восстания в Дрездене Арнольд вместе со своим другом Отто Вигандом и городским советом стал во главе движения в Лейпциге. Вместе с этими своими коллегами он выпустил энергичный манифест к дрезденцам, приглашая их храбро сражаться, ибо в Лейпциге находятся Руге, Виганд и отцы города — они стоят на страже, а береженого и бог бережет. Но едва только появился этот манифест, как наш храбрый Арнольд мгновенно улепетнул в Карлсруэ. В Карлсруэ он не чувствовал себя в безопасности, хотя баденцы стояли на Неккаре и дело еще далеко не дошло до военных действий. Он упросил Брентано отправить его в Париж в качестве посла. Брентано подшутил над ним, предоставив ему этот пост на двенадцать часов, а на другое утро выманил у него обратно приказ о назначении как раз в тот момент, когда Руге собирался выехать. Тем не менее Руге отправился в Париж вместе с действительно назначенными представителями правительства Брентано — Шюцем и Блиндом — и держал себя столь своеобразно, что его собственный бывший редактор Оппенхейм счел себя вынужденным объявить в официальной «Karlsruher Zeitung»[183], что г-н Руге отправился в Париж отнюдь не в качестве официального лица, а «на свой собственный страх и риск». Когда однажды Шюц и Блинд захватили его с собой к Ледрю-Роллену, Руге вдруг прервал дипломатические переговоры, начав в присутствии француза отчаянно бранить немцев, так что его спутникам не осталось ничего другого, как смущенно и сконфуженно ретироваться. Наступил день 13 июня, который так потряс нашего Арнольда, что он без всяких оснований дал тягу и опомнился только в Лондоне на свободной британской земле. По поводу этого бегства он сравнивал себя впоследствии с Демосфеном. В Лондоне Руге начал с попытки объявить себя послом баденского временного правительства. Затем он пытался проникнуть в английскую печать в качестве великого немецкого писателя-мыслителя, но получил повсюду отказ со ссылкой на то, что англичане слишком материалистичны, чтобы понимать немецкую философию. Кроме того, его спрашивали относительно его произведений, на что Руге мог отвечать лишь вздохом, между тем как в уме его вновь живо вставал образ Бруно Бауэра. Ибо что представляло собой даже его собрание сочинений, как не многократно перепечатанные брошюры! И даже не брошюры, а сброшюрованные журнальные статьи, и в сущности даже не журнальные статьи, а перепутанные отрывки из прочитанных книг. Снова надо было что-то предпринять, и Руге написал две статьи для «Leader»[184], в которых он под предлогом изображения немецкой демократии заявляет, что в Германии сейчас на повестке дня стоит «гуманизм», представляемый Людвигом Фейербахом и Арнольдом Руге, автором следующих трудов: 1) «Религия нашего времени», 2) «Демократия и социализм», 3) «Философия и революция». Эти три выдающиеся произведения, которых до сих пор нельзя найти ни в одной книжной лавке, являются, разумеется, не чем иным, как неопубликованными пока новыми заглавиями некоторых старых статей Руге. Одновременно с этим Арнольд принялся за свои ежедневные уроки, делая — себе самому в назидание, немецкой публике на пользу и к величайшему ужасу г-на Брюггемана — обратный перевод на немецкий язык статей, попавших из «Kolnische Zeitung» в «Morning Advertiser»[185]. Не пожав никаких лавров, он удалился в Остенде, где нашел досуг, необходимый для подготовки к роли премудрого путаника{11} немецкой эмиграции. Подобно тому как Густав представляет растительную пищу, а Готфрид — чувства немецкого мелкобуржуазного филистера, так Арнольд представляет его разум, или, вернее, неразумие. Он не открывает, подобно Арнольду Винкельриду[186], дорогу свободы, — он собственной персоной являет собой сточный желоб «свободы»{12}. В германской революции Руге выделяется точно вывеска на углу некоторых улиц: здесь разрешается мочиться. Однако вернемся, наконец, к нашему циркуляру и сопроводительному письму. Циркуляр не произвел ожидаемого впечатления, и из первой попытки учредить демократическую единую церковь ничего не вышло. Впоследствии Шрамм и Густав объясняли, будто виною тому было лишь то обстоятельство, что Руге не умел ни говорить по-французски, ни писать по-немецки. Но великие мужи вскоре снова стали действовать. Che ciascun oltra moda era possente, {Один другого мощью был чудесней, (Боярдо. «Влюбленный Роланд».) Ред.} VI Одновременно с Густавом из Швейцарии в Лондон приехал Родомонт-Гейнцен[187]. Карл Гейнцен, годами живший угрозой истребить в Германии «тиранов», проникся после февральской революции такой неслыханной храбростью, что решился вновь ступить на немецкую землю, на островок Шустер, а потом переправился в Швейцарию. Оттуда, из безопасной Женевы, он снова принялся громить «тиранов и притеснителей» и воспользовался случаем объявить, что «Кошут великий человек, но Кошут забыл про гремучую ртуть». Из отвращения к кровопролитию Гейнцен стал алхимиком революции. Он мечтал о взрывчатом веществе, которое в мгновение ока могло бы смести с лица земли всю европейскую реакцию, не обжегши даже пальцев того, кто его применит. Он питал особое отвращение к «прогулкам» под градом пуль и к обыкновенному способу ведения войны, при котором убеждения не защищают от пуль. Во времена правления г-на Брентано он даже рискнул совершить революционную поездку в Карлсруэ. Не получив там ожидаемой награды за свои великие подвиги, он решился на первых порах редактировать официальный вестник {«Karlsruher Zeitung». Ред.} «предателя» Брентано. Однако, когда пруссаки начали наступление, он заявил, что он, Гейнцен, отнюдь «не намерен давать себя убивать» за предателя Брентано, и под предлогом формирования отборного отряда, в котором политические убеждения и военная организация взаимно дополняли бы друг друга, — иными словами, воинская трусость сходила бы за политическую смелость, — он в постоянной погоне за таким образцовым добровольческим отрядом отступал до тех пор, пока не очутился вновь на знакомой швейцарской земле. «Путешествие Софии из Мемеля в Саксонию»[188] выглядело более кровавым, чем революционный поход Родомонта. Прибыв в Швейцарию, он объявил, что в Германии нет больше людей, что настоящая гремучая ртуть еще не открыта, что война ведется не при помощи революционных убеждений, а обычным путем, посредством пороха и свинца, и что теперь он начнет революционизировать Швейцарию, ибо Германию он считает потерянной. В идиллически-изолированной Швейцарии, принимая во внимание исковерканный язык, на котором здесь говорят, Родомонт мог сойти за немецкого писателя и даже за опасного человека. Он добился того, чего хотел. Он был выслан и за счет Швейцарского союза препровожден в Лондон. Родомонт-Гейнцен не принимал прямого участия в европейской революции, но он, без сомнения, не мало суетился из-за нее. Когда разразилась февральская революция, он произвел в Нью-Йорке «сбор денег в пользу революции», чтобы поспешить на помощь отечеству, и добрался до самой швейцарской границы. Когда потерпела крушение мартовская революция в германских государствах, он за счет швейцарского Федерального совета перекочевал из Швейцарии на ту сторону Ла-Манша. Он получил то удовлетворение, что взимал поборы как с революции для своего наступления, так и с контрреволюции для своего отступления. В итальянских рыцарских эпопеях постоянно фигурируют могучие, широкоплечие великаны; вооруженные громадными дубинами, они, однако, в поединках, несмотря на свою варварскую драчливость и грозные вопли, никогда не попадают в противника, а всегда только в окружающие деревья. Таким-то ариостовским великаном в политической литературе и является г-н Гейнцен. Наделенный от природы грубо сколоченной фигурой и солидной плотью, он узрел в этом указание на то, что он призван стать великим человеком. Эта увесистая телесность довлеет над всей его литературной деятельностью, которая насквозь телесна. Противники его — всегда крохотны, карлики, недоходящие ему до щиколотки, на которых он, даже согнувшись до колен, смотрит сверху вниз. Когда же, наоборот, требуется пустить телесность в дело, «uomo membruto» {«здоровенный детина». Ред.} ищет спасения в литературе или в суде. Так, едва он очутился в безопасности на британской земле, как написал статью о моральном мужестве. В Нью-Йорке же нашего великана в течение столь долгого времени и столь часто избивал некий г-н Рихтер, что полицейский судья, налагавший сначала лишь незначительные денежные штрафы, в конце концов приговорил карлика Рихтера, принимая во внимание его целеустремленность, к уплате компенсации за побои в размере 200 долларов. Естественным дополнением к этому большому телу, в котором все пышет здоровьем, является здравый человеческий, смысл, который, по уверению г-на Гейнцена, присущ ему в высшей степени. В соответствии с требованиями этого здравого человеческого смысла г-н Гейнцен, будучи прирожденным гением, ничему не учился, и в литературном и научном отношении совершенно невежественен. В силу здравого человеческого смысла, который он называет также «свойственной ему проницательностью» и на основании которого он уверял Кошута, что «проник до последних пределов идеи», он учится только понаслышке или по газетам, а поэтому постоянно отстает от времени и всегда щеголяет в одеянии, за несколько лет до того сброшенном литературой, между тем как новые современные одежды, с которыми он никак еще не может освоиться, он объявляет безнравственными и негодными. Но в то, что он уже раз усвоил, он верит совершенно непоколебимо, и это превращается для него в нечто исконное, само собой разумеющееся, с чем должен согласиться каждый и чего не желает понять только злоба, глупость или софистика. Столь крепкое тело и столь здравый человеческий смысл должны, конечно, также обладать твердыми, добропорядочными убеждениями и им весьма пристало доводить тупую веру в эти убеждения до крайних пределов. В этом отношении Гейнцен не уступает никому. По всякому поводу следует ссылка на убеждение, каждому аргументу противопоставляется убеждение и со всяким, кто его не понимает или кого он не понимает, он разделывается, попросту объявляя его человеком, не имеющим никаких убеждений и исключительно по злой воле, с дурными намерениями отрицающим то, что ясно, как солнечный день. Против этих презренных последователей Аримана[189] он взывает к своей музе — к негодованию: он бранится, он шумит, он бахвалится, он читает нравоучения, он с пеной у рта произносит пустые проповеди самого трагикомического характера. Он показывает, до каких пределов может доходить бранная литература, когда ею пользуется человек, которому в равной степени чужды как остроумие, так и литературное образование Берне. Какова его муза, таков и его стиль. Вечно все та же сказочная «дубинка, из мешка!»[190], при этом, однако, самая обыкновенная дубинка, у которой даже суковатые отростки не оригинальны и не колючи. Только в тех случаях, когда он наталкивается на нечто научное, он на мгновение запинается. С ним происходит то же, что произошло с торговкой рыбой в Биллингсгете[191], с которой однажды вступил в перебранку О'Коннел и которую он заставил замолчать, ответив ей на длинный поток ругани: «Вы сами такая, вы еще много хуже, вы — равнобедренный треугольник, вы — параллелепипед!». Из прошлого г-на Гейнцена надо отметить, что он в голландских колониях дослужился если не до генерала, то до унтер-офицера — унижение, из-за которого он впоследствии всегда отзывался о голландцах, как о нации, лишенной убеждений. Позже мы застаем его в Кёльне мелким налоговым чиновником, в качестве какового он написал комедию, в которой его здравый человеческий смысл тщетно пытался высмеять философию Гегеля[192]. Значительно лучше чувствовал он себя в отделе местных сплетен «Kolnische Zeitung», на последней полосе, где он с важностью рассуждал о недоразумениях в кёльнском Карнавальном обществе — учреждении, из которого вышли все великие люди Кёльна. Его собственные горести, равно как и горести отца его, лесничего Гейнцена, испытанные в столкновениях с начальством, приняли у него, — как обычно происходит со здравым человеческим смыслом при всякого рода мелких личных конфликтах, — характер мировых событий. Он описал их в своей «Прусской бюрократии» — книге, которая значительно хуже венедеевской[193] и в которой нет ничего, кроме жалоб мелкого чиновника на высшее начальство. Эта книга вовлекла его в процесс о печати. Хотя ему в худшем случае угрожало лишь шестимесячное заключение, ему казалось, что он рискует головой, и он спасся бегством в Брюссель. Оттуда он потребовал, чтобы прусское правительство не только гарантировало ему свободный пропуск, но также отменило в его интересах все французское судопроизводство и предало бы его суду присяжных по делу о простом проступке[194]. Прусское правительство издало приказ об его аресте; он ответил «Приказом об аресте» прусского правительства[195]; в этом сочинении он, между прочим, проповедовал моральное сопротивление и конституционную монархию, а революционеров объявлял безнравственными людьми и иезуитами. Из Брюсселя он направился в Швейцарию. Там он, как уже говорилось выше, встретился с другом Арнольдом и, кроме его философии, обучился у него весьма выгодному способу обогащения. Подобно тому как Арнольд в процессе полемики старался присваивать идеи своего противника, так и Гейнцен в процессе ругани стал усваивать новые мысли, с которыми он боролся. Не успел он сделаться атеистом, как со всем рвением и жаром прозелита тотчас затеял яростную полемику с бедным стариком Фолленом за то, что последний не видел оснований также сделаться на старости лет без всяких побудительных причин атеистом. Швейцарская федеративная республика, с которой он теперь столкнулся вплотную, развила его здравый человеческий смысл до такой степени, что он пожелал теперь ввести такую же федеративную республику и в Германии. Однако тот же здравый человеческий смысл привел его к заключению, что сделать это без революции невозможно, и таким образом Гейнцен стал революционером. Он открыл торговлю памфлетами, проповедуя в них в грубейшем швейцарском мужицком тоне немедленное вступление в «бой» и угрожая смертью всем монархам, от которых исходят все бедствия на земле. Он пытался образовать в Германии комитеты для сбора средств на печатание и распространение этих памфлетов, причем это бесцеремонно сопровождалось попрошайничеством в широких размерах — промыслом, в котором принадлежащие к его партии люди сперва эксплуатировались, а затем подвергались грубой брани. Подробнее об этом может рассказать старик Ицштейн. Эти памфлеты снискали Гейнцену большую славу среди немецких виноторговцев, разъезжающих по стране, которые всюду трубили о нем как о храбром «вояке». Из Швейцарии он перебрался в Америку; здесь он, несмотря на то, что благодаря своему швейцарскому мужицкому стилю сходил за настоящего поэта, сумел в короткое время загубить нью-йоркскую «Schnellpost»[196]. Вернувшись в Европу после февральской революции, он написал в «Mannheimer Abendzeitung»[197] несколько сообщений о прибытии великого Гейнцена и выпустил брошюру против Ламартина[198] в отместку за то, что последний, так же, впрочем, как и все правительство, игнорировал его, невзирая на его мандат представителя американских немцев. Возвращаться в Пруссию он не желал, так как, несмотря на мартовскую революцию и амнистию, полагал, что там он все еще рискует головой. Его должен был призвать народ. Так как этого не произошло, он вздумал заочно баллотироваться в Гамбурге в депутаты во Франкфуртский парламент, мотивируя это тем, что раз он плохой оратор, то тем энергичнее он будет голосовать. Однако он провалился. Прибыв после окончания баденского восстания в Лондон, он с крайним негодованием стал отзываться о молодых людях, из-за которых забывали и которые сами забывали великого мужа дореволюционного и послереволюционного периода. Он всегда был лишь l'homme de la veille или l'homme du lendemain {человеком вчерашнего или человеком завтрашнего дня. Ред.}, но никогда не был l'homme du jour {человеком сегодняшнего дня. Ред.}, а тем паче — de la journee {дня решительных действий. Ред.}. Так как настоящей гремучей ртути все еще не открыли, приходилось изыскивать новые средства борьбы с реакцией. Поэтому он потребовал принесения в жертву двух миллионов голов, дабы в качестве диктатора он мог погрузиться по щиколотку в кровь, — разумеется, пролитую другими. В сущности дело сводилось к тому, чтобы вызвать скандал. Реакция за свой счет препроводила его в Лондон, теперь посредством высылки из Англии она должна была также бесплатно препроводить его в Нью-Йорк. Затея, однако, не удалась и привела лишь к тому, что французские радикальные газеты обозвали его дураком, требующим двух миллионов голов лишь потому, что сам он никогда не рисковал своей собственной. Но чтобы достойно увенчать дело, он свою кровожадную, кровавую статью напечатал… в «Deutsche Londoner Zeitung» бывшего герцога Брауншвейгского — конечно, за наличные деньги. Густав и Гейнцен издавна питали друг к другу чувства взаимного уважения. Гейнцен выдавал Густава за мудреца, а Густав Гейнцена — за вояку. Гейнцен едва мог дождаться окончания европейской революции, чтобы положить конец «губительным раздорам среди демократической немецкой эмиграции» и вновь приняться за свои домартовские дела. Он «представил на обсуждение программу германской революционной партии в качестве своего предложения и проекта». Программа эта выделялась изобретением особого министерства для «той отрасли, которая не уступает по важности любой другой, — а именно для организации публичных игрищ, площадок для борьбы» (без града пуль) «и садов», а также декретом, «отменяющим преимущества лиц мужского пола, в частности в браке» (особенно также ив тактике удара во время войны. См. Клаузевиц). Программа эта, представлявшая собой в сущности только дипломатическую ноту Гейнцена Густаву, — никто другой, собственно, не обратил на нее никакого внимания, — вместо единения вызывает лишь немедленный разрыв между обоими каплунами. Гейнцен требовал назначения для «революционного переходного времени» единоличного диктатора, непременно пруссака родом, причем, во избежание недоразумений, он добавлял: «Диктатором не может быть солдат». Густав же, наоборот, требовал диктатуры троих, в число коих, кроме него, должно было войти по крайней мере еще два баденца. К тому же Густаву показалось, что он обнаружил, будто Гейнцен в поспешно опубликованной программе украл у него какую-то «идею». Так провалилась эта вторая попытка единения, и Гейнцен, совершенно непризнанный светом, вернулся во мрак неизвестности, в котором пребывал до тех пор, пока не нашел, что английская почва для него невыносима и не отплыл осенью 1850 г. в Нью-Йорк. VII ГУСТАВ И КОЛОНИЯ ВОЗДЕРЖАНИЯ После того как неутомимый Густав сделал еще одну безуспешную попытку образовать вместе с Фридрихом Бобцином, Хаббеггом, Освальдом, Розенблюмом, Конхеймом, Грунихом и другими «выдающимися» мужами центральный эмигрантский комитет, он направил свои стопы в Йоркшир. Здесь должен был расцвести волшебный сад, в котором царил бы не порок, как в саду Альчины[199], а добродетель. Один старый отличавшийся юмором англичанин, которому наш Густав надоедал своими теориями, поймал его на слове и отвел ему в Йоркшире несколько моргенов болотистой земли с непременным условием, чтобы там была основана «колония воздержания», где строжайше воспрещалось бы всякое употребление мяса, табака и спиртных напитков, где допускалась бы только растительная пища и где каждый колонист был бы обязан по утрам вместо молитвы читать главу из сочинения Струве о государственном праве. Кроме того, колония должна была содержать себя собственным трудом. В сопровождении своей Амалии, желторотого шваба Шнауффера и еще нескольких соратников Густав смиренно отправился в поход и основал «колонию воздержания». Об этой колонии можно сказать, что в ней господствовало мало «благосостояния», много просвещения и неограниченная «свобода» скучать и худеть. И вот в одно прекрасное утро наш Густав открыл обширный заговор. Его компаньоны, не обладавшие его жвачными наклонностями и питавшие отвращение к растительной пище, порешили за его спиной зарезать единственную старую корову, молоко которой являлось главным источником дохода «колонии воздержания». Густав всплеснул руками, залился горючими слезами по поводу вероломства по отношению к подобной нам твари божьей, с негодованием объявил, что колония распускается, и решил сделаться мокрым квакером[200], если ему и на этот раз не удастся в Лондоне вновь вызвать к жизни «Deutscher Zuschauer» или основать какое-либо «временное правительство». VIII Арнольд, которого никак не устраивало отшельническое житье в Остенде и которого тянуло к «повторному появлению» перед публикой, прослышал о густавовой беде. Он немедленно решил поспешно вернуться в Англию и на плечах Густава подняться до положения одного из пентархов европейской демократии. Дело в том, что в это время из Мадзини, Ледрю-Роллена и Дараша образовался Европейский центральный комитет[201], душой которого был Мадзини. Руге учуял здесь вакантное местечко. Правда, у Мадзини был им самим произведенный в генералы Эрнст Хауг, но он еще мог назначить его немецким сотрудником своего «Proscrit»[202], однако сделать этого совершенно безвестного человека членом своего Центрального комитета он не мог хотя бы из соображений приличия. Нашему Руге было известно, что Густав был знаком с Мадзини еще по Швейцарии. Он, со своей стороны, хотя и знал Ледрю-Роллена, но сам, к несчастью, был ему незнаком. И вот Арнольд поселился в Брайтоне, стал баловать и миловать простодушного Густава, обещал ему основать вместе с ним в Лондоне «Deutscher Zuschauег» и даже за свой счет предпринять совместное демократическое издание роттек-велькеровского словаря политических наук. В то же время одной из провинциальных немецких газет, каковые он в соответствии со своими принципами всегда имел под рукой (на этот раз жребий выпал на долю «Bremer Tages-Chronik»[203] попа Дулона, принадлежащего к «Друзьям света»), он рекомендовал нашего Густава в качестве великого мужа и сотрудника. Рука руку моет — Густав рекомендовал Арнольда Мадзини. Так как Арнольд изъяснялся на совершенно непонятном французском языке, никто не мог ему помешать представиться Мадзини в качестве величайшего мужа и особенно в качестве «мыслителя» Германии. Видавший виды итальянский фанатик с первого взгляда признал в Арнольде нужного ему человека, homme sans consequence {ничтожного, незначительного человека. Ред.}, который мог бы ставить под его антипапскими буллами подпись от имени немцев. Таким образом, Арнольд Руге стал пятой спицей в колеснице европейской центральной демократии. Когда какой-то эльзасец спросил Ледрю, как ему могло прийти в голову связаться о таким «bete» {«болваном». Ред.}, Ледрю резко ответил: «C'est l'homme de Mazzini» {«Это ставленник Мадзини». Ред.}. Когда же спросили Мадзини, почему он связался с Ледрю, совершенно безыдейным человеком, хитрец ответил: «C'est precisement pourquoi je l'ai pris» {«Именно поэтому я его и избрал». Ред.}. Мадзини сам имел все основания держаться подальше от идейных людей. А Арнольд Руге почувствовал, что он превзошел собственный идеал, и на некоторое время позабыл даже о Бруно Бауэре. Когда же он должен был подписать первый мадзиниевский манифест, он с тоской вспомнил о тех временах, когда он выступал против профессора Лео в Галле и старика Фоллена в Швейцарии — первый раз как приверженец учения о святой троице, а второй — уже в качестве атеиста-гуманиста. Теперь надлежало вместе с Мадзини выступить в защиту бога против монархов. За это время философская совесть нашего Арнольда успела уже значительно деморализоваться благодаря связи его с Дулоном и прочими пасторами, среди которых он слыл философом. От некоторой слабости к религии вообще наш Арнольд в последнее время не мог отделаться, а кроме того его «честное сознание» нашептывало ему: «Подпиши, Арнольд! Paris vaut bien une messe[204]. Даром нельзя стать пятой спицей в колеснице временного правительства Европы in partibus! Подумай, Арнольд! Каждые две недели подписывать манифест, притом в качестве «membre du parlement allemand» {«члена германского парламента». Ред.}, в обществе самых великих мужей Европы!» И Арнольд подписал, обливаясь потом. «Странный курьез!» — бормотал он. — «Се n'est que le premier pas qui coute» {«Труден лишь первый шаг». Ред.}. Последнюю фразу он накануне вечером занес в свою записную книжку. Между тем испытания Арнольда еще не пришли к концу. После того как Европейский центральный комитет выпустил ряд манифестов — к Европе, к французам, к итальянцам, к силезским полякам, к валахам, очередь дошла, благо как раз произошло великое сражение при Бронцелле[205], до Германии. В своем наброске Мадзини нападал на немцев за недостаток космополитизма и, в частности, за излишнюю заносчивость по отношению к итальянским колбасникам, шарманщикам, кондитерам, дрессировщикам сурков и продавцам мышеловок. Арнольд, пристыженный этим, все это признал. Больше того, он заявил, что согласен отдать Мадзини итальянскую часть Тироля и Истрию. Но этого оказалось недостаточно. Необходимо было не только усовестить немецкую нацию, — надобно было подействовать на ее слабые стороны. Арнольд получил приказ иметь на этот раз собственное мнение, поскольку он представляет немецкий элемент. Чувствовал он себя при этом как кандидат Иобс[206]. Он задумчиво почесал затылок н после долгих размышлений пролепетал: «Со времен Тацита германские барды поют баритоном и зимней порой зажигают на всех горах костры, чтобы греть у них ноги». «Барды, баритон и костры на всех горах! Это ли не поможет немецкой свободе!» — ухмылялся Мадзини. Барды, баритон, костры на горах и немецкая свобода попали в манифест как чаевые для немецкой нации[207]. К своему собственному удивлению Арнольд Руге выдержал экзамен и впервые понял, как мало требуется мудрости, чтобы управлять миром. С этого момента он больше, чем когда-либо, стал презирать Бруно Бауэра, написавшего уже в молодые годы восемнадцать увесистых томов. Пока Арнольд, на запятках Европейского центрального комитета, подписывал, таким образом, для Мадзини воинственные манифесты в защиту бога против монархов, движение в пользу мира под предводительством Кобдена не только широко распространилось в Англии, но даже перекинулось на ту сторону Немецкого моря, так что шарлатан-янки Элнхью Бёррит вместе с Кобденом, Яупом и Жирарденом и индейцем Каги-га-ги-ва-ва-бе-та могли устроить конгресс мира во Франкфурте-на-Майне[208]. У нашего Арнольда руки чесались воспользоваться также и этим случаем, чтобы совершить свое «повторное появление» и выпустить от своего имени манифест. Поэтому он сам себя назначил членом-корреспондентом этого франкфуртского собрания н послал туда чрезвычайно путаный манифест о мире, переложенный им из речей Кобдена на свой спекулятивный померанский язык. Некоторые немцы указывали Арнольду на противоречие между воинственной позицией его в Центральном комитете и его квакерским манифестом о мире. На это он обычно возражал: «На то и существуют противоречия. Такова диалектика. В молодости я изучал Гегеля». А «честное сознание» успокаивало его тем, что Мадзини не понимает по-немецки и поэтому ему легко втереть очки. Протекция Харро Харринга, только что высадившегося в Гулле, также сулила надежду на упрочение отношений Арнольда с Мадзини. В лице Харро Харринга на сцену выступил новый в высокой степени примечательный персонаж. IX Великой драме демократической эмиграции 1849–1852 гг. предшествовал за восемнадцать лет до того пролог: демагогическая эмиграция 1830–1831 годов. Хотя времени было достаточно, чтобы смести со сцены большую часть этой первой эмиграции, однако некоторые достойные остатки ее еще сохранились. Со стоическим спокойствием относясь и к ходу мировой истории и к результатам собственной деятельности, они продолжали заниматься своим ремеслом агитаторов, составляли всеобъемлющие планы, учреждали временные правительства и сыпали декларациями направо и налево. Ясно, что эти многоопытные шарлатаны должны были бесконечно превосходить новое поколение в знании дела. Это-то умение вести дела, приобретенное восемнадцатилетней практикой заговоров, комбинаций, интриг, деклараций, обмана и выпячивания своей персоны и придало г-ну Мадзини смелость и уверенность, с которыми он, имея за собой трех мало искушенных в подобных делах подставных лиц, смог провозгласить себя Центральным комитетом европейской демократии. Никто не был поставлен обстоятельствами в более благоприятное положение, для того чтобы стать типичным эмигрантским агитатором, как наш друг Харро Харринг. И он действительно стал тем образцом, которому более или менее сознательно и более или менее удачно стараются подражать все паши великие мужи эмиграции — все Арнольды, Густавы и Готфриды; им, возможно, и удастся — если никакие неблагоприятные обстоятельства не помешают этому — сравняться с ним, по вряд ли они сумеют его превзойти. Харро, который, подобно Цезарю, сам описал свои подвиги (Лондон, 1852 г.)[209], родился «на Кимврийском полуострове» {древнее название полуострова Ютландия. Ред.}. Он принадлежит к тому северофризскому племени провидцев, которое уже доказало при посредстве д-ра Клемента, что все великие нации мира произошли от него. «Уже в ранней юности» стремился он «делами доказать свою преданность делу народов», отправившись в 1821 г. в Грецию. Друг Харро, очевидно, уже с молодых лет чувствовал в себе призвание быть всюду, где имела место какая-либо сумятица. Впоследствии он «благодаря странной судьбе оказался у истоков абсолютизма, в непосредственной близости от царя, и, будучи в Польше, разглядел иезуитский характер конституционной монархии». Таким образом, и в Польше Харро сражался за свободу. Однако «кризис европейской истории после падения Варшавы поверг его в глубокое раздумье», и это раздумье привело его к мысли о «демократии национальности», — мысли, которую он немедленно «запечатлел в произведении «Народы», Страсбург, март 1832 года». По поводу этого произведения надобно заметить, что его чуть было не процитировали на Гамбахском празднестве[210]. В то же время он издал свои «республиканские стихи: «Капли крови, «История царя Саула, или монархия», «Голоса мужей. К единству Германии»», и редактировал выходивший в Страсбурге журнал «Deutschland»[211]. Все эти произведения и даже все его будущие произведения имели неожиданное счастье быть 4 ноября 1831 г. запрещенными Союзным сеймом. Именно этого и недоставало славному борцу, — теперь он приобрел заслуженный вес и одновременно мученический венец. Он мог, таким образом, воскликнуть: «Мои произведения получили широкое распространение и глубокий отклик в сердце народа. Они большей частью раздавались бесплатно. Некоторые из них не покрыли мне даже расходов по их изданию». Но его ожидали новые почести. Уже в ноябре 1831 г. г-н Велькер тщетно пытался в обширном послании «склонить его к вертикальному горизонту конституционализма». Потом, в январе 1832 г., к нему явился г-н Мальтен, известный агент Пруссии за границей, и предложил ему поступить на прусскую службу. Двойное признание даже со стороны врагов! Достаточно сказать, что предложение Мальтена «бессознательно» пробудило в нем «желание возродить в противовес этому династическому предательству идею скандинавской национальности», и «с этого времени возродилось, по крайней мере, слово «Скандинавия», казавшееся забытым уже в течение столетий». Таким образом наш северный фриз из Южной Ютландии, не знавший сам толком, немец он или датчанин, приобрел хотя бы фантастическую национальность, и первым результатом этого приобретения было то, что гамбахцы не пожелали иметь с ним дела. После этих событий положение Харро было обеспечено. Ветеран борьбы за свободу Греции и Польши, изобретатель «демократии национальности», человек, вновь открывший «слово «Скандинавия»», признанный — благодаря запрету Союзного сейма — поэт, мыслитель и журналист, мученик и уважаемый даже врагами великий муж, отбить которого друг у друга стремились конституционалисты, абсолютисты, республиканцы, вдобавок достаточно пустой и путаный, чтобы верить в свое собственное величие, — чего еще не хватало ему для счастья? Но вместе с его славой росли также и требования, которые Харро как человек строгий предъявлял к самому себе. Недоставало большого труда, который в занимательной и популярной форма художественно синтезировал бы великие учения о свободе, идею демократии национальности, все возвышенные свободолюбивые стремления пробуждающейся на его глазах молодой Европы. Создать подобный труд мог лишь первоклассный поэт и мыслитель, а таким поэтом и мыслителем мог быть только Харро. Так возникли первые три части «драматического цикла «Народ», всего в двенадцати частях, из которых одна на датское языке», — труда, которому автор посвятил десять лет своей жизни. К сожалению, из этих двенадцати частей одиннадцать находятся «до сих пор в рукописном виде». Но недолго продолжалось сладостное общение с музами. «Зимой 1832–1833 гг. в Германии подготовлялось движение, потерпевшее неудачу в трагических беспорядках во Франкфурте. Мне было поручено в ночь с 6 на 7 апреля овладеть крепостью (?) Кель. И люди, и оружие были в готовности». К сожалению, из всего этого ничего не вышло и Харро пришлось удалиться в глубь Франции, где он написал свои «Слова человека». Оттуда вызвали его в Швейцарию готовившиеся к савойскому походу поляки. Там он стал «союзником их штаба», написал еще две части драматического цикла «Народ» и познакомился в Женеве с Мадзини. Затем вся эта серная банда[212] из польских, французских, немецких, итальянских и швейцарских авантюристов под командой благородного Раморино совершила пресловутое вторжение в Савойю[213]. Во время этого похода наш Харро почувствовал «ценность своей жизни и своей энергии». Но так как и остальные борцы за свободу подобно Харро чувствовали «ценность своей жизни», а относительно своей «энергии» не питали никаких иллюзий, то дело кончилось плохо, и вся компания возвратилась в Швейцарию разбитой, оборванной и разрозненной. Недоставало только этого похода, чтобы толпа эмигрировавших рыцарей получила полное представление, насколько она страшна тиранам. Пока еще отголоски июльской революции давали себя знать во Франции, Германии или в Италии в виде отдельных восстаний, пока за нашими эмигрировавшими героями еще кое-кто стоял, они чувствовали себя лишь атомами в общей массе, пришедшей в движение, — правда, более или менее привилегированными, руководящими атомами, но в конечном счете все же только атомами. По мере же того как восстания эти теряли свою силу, по мере того как широкая масса «трусов», «равнодушных», «маловеров» все больше отказывалась от легкомысленной игры в восстание [Putschschwindelei] и наши рыцари чувствовали себя все более одинокими, — стало возрастать и их самомнение. Если вся Европа делалась малодушной, глупой и эгоистичной, то как должны были вырасти в собственных глазах те преданные долу люди, которые подобно жрецам поддерживали в своей груди священный огонь ненависти к тиранам и сохраняли традиции великой эпохи добродетели и любви к свободе для будущего более мужественного поколения! Если бы и они изменили делу, тираны утвердились бы на вечные времена. Так, подобно демократам 1848 г., в каждом поражении они черпали новую уверенность в победе и все больше и больше превращались в странствующих донкихотов с сомнительными средствами существования. Заняв такую позицию, они могли предпринять величайший из своих подвигов, а именно основать «Молодую Европу»[214], чья декларация о братстве, составленная Мадзини, была подписана в Берне 15 апреля 1834 года. В этот союз Харро вступил в качестве «инициатора учреждения Центрального комитета, натурализованного члена «Молодой Германии» и «Молодой Италии» и вместе с тем в качестве представителя скандинавской ветви», каковую он «представляет и поныне». Дата подписания этой декларации о братстве составляет для нашего Харро начало великой эры: от нее и вперед и назад ведется летосчисление, как это делалось до сих пор от рождества Христова. Эта дата знаменует кульминационный пункт его жизни. Он был содиктатором Европы in partibus, и хотя он был неизвестен миру, но все же являлся одним из опаснейших людей в мире. За плечами у него не было ничего, кроме его многочисленных, ненапечатанных произведений, за ним шло всего несколько немцев-ремесленников в Швейцарии да дюжина опустившихся политических аферистов. Но именно поэтому он мог утверждать, что с ним все народы. В том-то и особенность всех великих мужей, что современность их не признает и как раз по этой причине им принадлежит будущее. А это будущее наш Харро носил в своем ранце, написанным черным по белому, — в виде декларации о братстве. Но с этого времени начинается падение Харро. Первой постигшей его напастью было то, что ««Молодая Германия» в 1836 г. отделилась от «Молодой Европы»». Однако Германия за это была наказана. А именно вследствие этого отделения «весной 1848 г. оказалось, что в Германии для национального движения ничего не подготовлено», и поэтому все дело окончилось столь плачевно. Но куда более тяжкое огорчение причинило нашему Харро появление к этому времени коммунизма. При этом мы узнаем, что изобретателем коммунизма был не кто иной, как «циник Иоганнес Мюллер из Берлина, автор вышедшей в 1831 г. в Альтенбурге весьма интересной брошюры о политике Пруссии», который отправился в Англию, где ему «не оставалось ничего иного, как пасти свиней по утрам на Смитфилдском рынке». Эпидемия коммунизма вскоре стала свирепствовать среди немецких ремесленников во Франции и Швейцарии, и он сделался чрезвычайно опасным врагом для нашего Харро, так как тем самым был закрыт единственный рынок сбыта для его писаний. Такова «косвенная цензура коммунистов», от которой бедный Харро страдает и поныне, и теперь даже больше, чем когда-либо прежде, как он это с грустью признает и как «доказывает судьба его драмы «Династия»». Этой «косвенной цензуре коммунистов» удалось даже прогнать нашего Харро из Европы, и он отправился в Рио-де-Жанейро (1840 г.), где жил в течение некоторого времени в качестве художника. «Добросовестно следуя духу времени», он напечатал там произведение ««Поэзия Скандинава» (2000 экземпляров), ставшее с этого времени благодаря своему распространению среди моряков как бы океанской литературой». Однако «из скрупулезного чувства долга перед «Молодой Европой»» он, к сожалению, вскоре вернулся в Европу, «поспешил в Лондон к Мадзини и там скоро разгадал опасность, угрожавшую со стороны коммунизма делу народов Европы». Его ждали новые подвиги. Бандьера готовили свою экспедицию в Италию[215]. Дабы поддержать их в этом деле и вовлечь деспотизм в диверсию, Харро «вновь отправился в Южную Америку, чтобы совместно с Гарибальди посильно содействовать основанию Соединенных Штатов Южной Америки во имя будущности народов». Однако деспоты разгадали его намерения, и Харро поспешил скрыться. Он отплыл в Нью-Йорк. «Во время поездки по океану я развил большую умственную деятельность и написал среди прочего драму «Власть идеи», относящуюся к драматическому циклу «Народ», также остающуюся до сих пор в рукописи». В Нью-Йорк он привез с собой из Южной Америки мандат от мнимой местной организации «Humanidad» {«Человечество». Ред.}. Весть о февральской революции вдохновила его — и он написал на французском языке произведение «Пробужденная Франция», а во время отплытия в Европу «я вновь запечатлел свою любовь к отечеству в нескольких стихотворениях из цикла «Скандинавия»». Он прибыл в Шлезвиг-Гольштейн. Здесь он застал «после двадцатисемилетнего отсутствия беспримерное смешение понятий о: международном праве, демократии, республике, социализме и коммунизме, сваленных, точно гнилое сено и солома, в авгиевы конюшни партийной ярости и национальной ненависти». И неудивительно, ибо «мои политические произведения, равно как и все мои стремления и моя деятельность, начиная с 1831 г., остались чуждыми и неизвестными в этих пограничных местностях моей родины». Аугустенборгская партия[216] в течение восемнадцати лет поддерживала против него conspiration du silence {заговор молчания. Ред.}. Чтобы помочь этой беде, он нацепил на себя саблю, ружье, четыре пистолета и шесть кинжалов и в таком виде стал взывать к образованию добровольческих отрядов; однако все было тщетно. После различных приключений он, наконец, высадился в Гулле. Там он поспешил обнародовать два послания — к шлезвиг-гольштейнцам, а также к скандинавам и немцам, — и отправил, как говорят, двум коммунистам в Лондон записку следующего содержания: «Пятнадцать тысяч рабочих Норвегии в моем лице протягивают вам братскую руку!» Несмотря на это странное обращение, он вскоре, в силу старой декларации о братстве, вновь сделался скромным компаньоном Европейского центрального комитета, а вместе с тем «ночным сторожем и наемным слугой в Грейвсенде на Темзе, где мне пришлось подыскивать на девяти различных языках шкиперов для недавно основанной маклерской фирмы, пока меня не заподозрили в обмане, — чего, по крайней мере, не произошло с философом Иоганнесом Мюллером в бытность его свинопасом». Итог своей богатой подвигами жизни Харро подводит таким образом: «Можно легко подсчитать, что, помимо стихов, я подарил демократическому движению более 18000 экземпляров моих произведений на немецком языке (ценой от 10 шиллингов до 3 марок по гамбургскому курсу, общей стоимостью около 25000 марок), ни разу не возместив расходы по их изданию, не говоря уже о том, что я не извлек из них никакого дохода для своего существования». На этом мы закончим повесть о приключениях нашего демагогического идальго из южноютландской Ламанчи. В Греции, как и в Бразилии, на Висле, как и на Ла-Плате, в Шлезвиг-Гольштейне, как и в Нью-Йорке, в Лондоне, как и в Швейцарии, — представитель то «Молодой Европы», то южноамериканского «Humanidad», то художник, то ночной сторож и наемный слуга, то книгоноша, распространяющий свои произведения — сегодня среди силезских поляков, завтра среди гаучо, послезавтра среди шкиперов, непризнанный, покинутый, одинокий, никем не замечаемый, но всюду остающийся странствующим рыцарем свободы, который питает глубокое презрение к обычным гражданским занятиям, — наш герой всегда, во всех странах и при всех обстоятельствах, остается неизменным путаником, отличающимся претенциозной навязчивостью и самомнением. Наперекор всему свету он всегда будет говорить, выступать в печати и писать о себе как о человеке, который, начиная с 1831 г., был главным движущим колесом мировой истории. Х 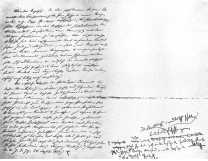 Страница рукописи работы «Великие мужи эмиграции» (Текст написан рукой Ф. Энгельса, дополнение — рукой К. Маркса) Несмотря на свои неожиданные успехи, Арнольд пока все еще не достиг цели своих трудов. Став представителем Германии милостью Мадзини, он должен был, с одной стороны, получить утверждение в этом звании по крайней мере от немецкой эмиграции, а, с другой стороны, представить Центральному комитету людей, которые признавали бы его руководство. Правда, он утверждал, что в Германии он имеет «позади себя ясно очерченную часть народа», но эта задняя часть отнюдь не могла внушать доверие Мадзини и Ледрю, пока они лицезрели только переднюю часть в лице Руге. Словом, Арнольду пришлось позаботиться о создании себе «ясно очерченного» хвоста в эмигрантской среде. К этому времени в Лондон прибыл Готфрид Кинкель и вместе с ним, или, скорее, вслед за ним, прибыл еще ряд изгнанников частью из Франции, частью из Швейцарии и Бельгии: Шурц, Штродтман, Оппенхейм, Шиммельпфенниг, Техов и другие. Эти вновь прибывшие, уже в Швейцарии отчасти поупражнявшиеся в создании временных правительств, внесли новую струю в жизнь лондонской эмиграции, и момент казался для нашего Арнольда более чем когда-либо благоприятным. В то же время Гейнцен вновь сделался в Нью-Йорке редактором «Schnellpost», и таким образом Арнольд имел теперь возможность, помимо бременского листка {«Bremer Tages-Chronik». Ред.}, совершать свое «повторное появление» также по ту сторону океана. Если бы у Арнольда оказался когда-либо свой Штродтман, последний признал бы комплект «Schnellpost» за первые месяцы 1851 г. неоценимым материалом. Трудно представить себе ту бесконечно пошлую болтовню, ту глупость, бесстыдство и чисто муравьиное прилежание и важность, с которыми Арнольд откладывает запасы своего литературного помета. В то время как Гейнцен изображает Арнольда великой европейской державой, Арнольд обращается со своим Гейнценом как с американским газетным оракулом! Он сообщает ему тайны европейской дипломатии, в особенности повседневные перемены в эмигрантской мировой истории; иногда же он фигурирует в качестве анонимного лондонского и парижского корреспондента для того, чтобы сообщить американской публике о некоторых «fashionable movements» {«светских выступлениях». Ред.} великого Арнольда. «Арнольд Руге опять прижал коммунистов к стенке». — «А. Руге вчера» (сообщение из Парижа, но датировка выдает старого лукавого простофилю) «совершил прогулку из Брайтона в Лондон». И еще: «Арнольд Руге — Карлу Гейнцену: «Дорогой друг и редактор… Мадзини тебе кланяется… Ледрю-Роллен разрешает тебе перевести его работу о 13 июня»» и т. п. По этому поводу в одном письме из Америки говорится: «Как я вижу из писем Руге» (в «Schnenpost»), «Гейнцен пишет Pyre» (конфиденциально) «всякого рода небылицы о значении его газеты в Америке, меж тем как Руге по отношению к нему держит себя как правительство великой европейской державы. Как только Руге сообщает Гейнцену какую-либо важную новость, он не упускает случая прибавить: можешь предложить другим газетам Соединенных Штатов перепечатать это. Как будто они стали бы ждать разрешения Руге, если бы сочли известие стоящим. К слову сказать, я ни разу еще не видел, чтобы эти важные новости были где-либо перепечатаны, несмотря на советы и разрешение г-на Руге». Папаша Руге пользовался этим листком, как и «Bremer Tages-Chronik», также и для того, чтобы завербовать вновь прибывших эмигрантов посредством такого рода льстивых фраз: здесь теперь находятся Кинкель, гениальный поэт и патриот, Штродтман, великий писатель, Шурц, молодой человек, столь же любезный, сколь и отважный, а кроме того, еще много выдающихся полководцев революции и т. п. Между тем, в противовес мадзиниевскому, образовался плебейский Европейский комитет, за которым стояли «эмигрантские низы» и весь эмигрантский сброд, принадлежавший к различным европейским национальностям. Ко времени битвы при Бронцелле они выпустили манифест, подписанный следующими выдающимися немцами: Гебертом, Майером, Дицем, Шертнером, Шаппером, Виллихом. Документ этот, написанный весьма своеобразным французским языком, сообщает в качестве последней новости, что Священный союз тиранов собрал к этому времени (10 ноября 1850 г.) под ружье миллион триста тридцать тысяч солдат, за которыми стоят в резерве еще семьсот тысяч вооруженных слуг монархии, что «немецкие газеты и собственные связи комитета» дали ему возможность узнать о тайных планах Варшавской конференции[217], состоящих в том, чтобы устроить резню всех республиканцев Европы. Манифест поэтому заканчивается неизбежным призывом к оружию. Этот манифест — манифест Фанон — Каперон — Гуте, как его окрестила газета «Patrie»[218], в которую он был послан, — был жестоко высмеян контрреволюционной прессой. «Patrie» назвала его «манифестом dii minorum gentium» {буквально: младших богов; в переносном смысле: второразрядных величин. Ред.}, написанным без блеска, без стиля, с жалкими цветами красноречия вроде выражений: «serpents», «sicaires» и «egorgements» {«змеи», «наемные убийцы», «кровавые бойни». Ред.}. «Independance belge»[219] сообщает, что ее составителями были «soldats les plus obscurs de la demagogie» {«самые безвестные рядовые демагоги». Ред.} и что бедняги послали манифест ее корреспонденту в Лондоне, хотя газета придерживается консервативного направления. Они так жаждали увидеть свои имена в печати, но как раз подписи газета в наказание и не захотела напечатать. Несмотря на заискивание перед реакцией, этим рыцарям так и не удалось заставить признать себя заговорщиками и опасными людьми. Это новое конкурирующее учреждение побудило Арнольда усилить свою деятельность. Так, он пытался вместе со Струве, Кинкелем, Шраммом, Бухером и другими основать газету под названием «Volksfreund» {«Друг народа». Ред.}, или, если Густав будет настаивать, «Deutscher Zuschauer». Но предприятие потерпело неудачу отчасти из-за того, что остальная компания противилась протекторату Арнольда, отчасти потому, что «сентиментальный» Готфрид требовал выплаты гонорара наличными, между тем как Арнольд придерживался взгляда Ганземана, что в денежных делах нет места сентиментам[220]. Арнольд, затевая это предприятие, преследовал еще специальную цель: обложить контрибуцией Общество читателей — клуб немецких часовщиков, состоящий из хорошо оплачиваемых рабочих и мелких буржуа. Однако и это не удалось. Вскоре представился, впрочем, новый случай для «повторного появления» Арнольда. Ледрю и его приверженцы среди французских эмигрантов не могли пропустить 24 февраля (1851 г.), не устроив «праздника братства» европейских наций, на котором присутствовали, впрочем, лишь французы и немцы. Мадзини не приехал и прислал письменное извинение. Готфрид, присутствовавший на торжестве, возвратился домой возмущенный, так как его безмолвное появление не вызвало ожидаемого магического эффекта. Арнольд испытал тяжелое переживание: его друг Ледрю сделал вид, будто не узнает его; и он, взойдя на трибуну, растерялся до такой степени, что так и не вытащил свою одобренную высшими сферами речь на французском языке и пролепетал только несколько слов по-немецки, после чего с восклицанием: «A la restauration de la revolution!» {«За реставрацию революции!» Ред.}, поспешно удалился при всеобщем неодобрении. В тот же день состоялся контрбанкет, проходивший под знаменем упомянутого выше конкурирующего комитета. С досады на то, что комитет Мадзини — Ледрю не привлек его с самого начала в свой состав, Луи Блан присоединился к эмигрантской черни, заявив, что «необходимо упразднить также и аристократию таланта!». Эмигрантские низы были в полном сборе. Председательствовал рыцарственный Виллих. Зал был украшен знаменами и на стенах красовались имена великих народных деятелей: между Гарибальди и Кошутом — Вальдек, между Бланки и Кабе — Якоби, между Барбесом и Робеспьером — Роберт Блюм. Кокетливый щеголь Луи Блан зачитал пискливым голосом адрес от своих старых подголосков, будущих пэров социальной республики, делегатов, заседавших в Люксембургском дворце в 1848 году[221]. Виллих огласил полученный из Швейцарии адрес, подписи под которым частично были собраны обманным путем под ложными предлогами, причем нескромное обнародование их повлекло впоследствии массовую высылку лиц, подписавших адрес. Из Германии адреса не было. Затем пошли речи. Несмотря на беспредельные братские чувства, на всех лицах лежала печать скуки. Банкет этот послужил поводом для в высшей степени поучительного скандала, разыгравшегося, как и все героические подвиги Европейского центрального комитета эмигрантской черни, на столбцах контрреволюционных газет. Весьма странным показалось уже то, что на этом банкете некий Бартелеми в присутствии Луи Блана произнес напыщенный панегирик Бланки. Но вскоре дело разъяснилось. «Patrie» напечатала текст тоста, который Бланки, по специальной просьбе, прислал из тюрьмы Бель-Иль[222]. В нем Бланки резко и справедливо нападал на всех членов временного правительства 1848 г. и, в особенности, на г-на Луи Блана. «Patrie» с притворным удивлением спрашивала, почему этот тост не был оглашен на банкете. Луи Блан немедленно заявил в «Times», что Бланки — гнусный интриган и что подобного тоста комитету по организации празднования он никогда не присылал. Со своей стороны комитет в лице гг. Блана, Виллиха, Ландольфа, Шаппера, Бартелеми и Видиля одновременно направил в «Patrie» заявление о том, что он этого тоста никогда не получал. Однако «Patrie» не печатала этого заявления до тех пор, пока не выяснила обстоятельств дела у г-на Антуана, зятя Бланки, передавшего ей текст тоста. Под текстом заявления комитета по организации празднования она напечатала ответ г-на Антуана, в котором говорилось, что он послал тост лицу, подписавшему в числе прочих заявление, а именно Бартелеми, и получил от него уведомление о получении тоста. После этого г-н Бартелеми был вынужден заявить, что он солгал, он действительно получил тост, но, найдя его неподходящим, отложил его, не сообщив об этом комитету. К несчастью, однако, еще до этого один из подписавших заявление, бывший капитан французской службы Видиль, написал без ведома Бартелеми письмо в «Patrie», в котором заявил, что чувство воинской чести и стремление к истине вынуждают его сознаться, что как он, так и Луи Блан, Виллих и все прочие солгали, подписав первое заявление комитета. Комитет состоял не из шести, а из тринадцати членов. Все они видели тост Бланки, все его обсуждали и после долгих дебатов большинством в семь голосов против шести решено было не оглашать его. Он, Видиль, был одним из шести членов, голосовавших за его оглашение. Легко представить себе торжество «Patrie», когда она, после письма Видиля, получила заявление г-на Бартелеми. Она напечатала его со следующим «предисловием»: «Мы часто задавали себе вопрос, — а на него ответить не легко, — что у демагогов развито сильнее: бахвальство или глупость? Полученное нами четвертое письмо из Лондона делает ответ для нас еще более затруднительным. Сколько же там этих несчастных созданий, до такой степени снедаемых жаждой писать и видеть свое имя напечатанным в реакционных газетах, что их не останавливает даже бесконечный позор и самоунижение! Какое им дело до насмешек и негодования публики, ведь «Journal des Debats», «Assemblee nationale», «Patrie» напечатают их стилистические упражнения. Для достижения такого счастья никакая цена не покажется слишком высокой этой космополитической демократии… Во имя литературного сострадания мы помещаем поэтому нижеследующее письмо «гражданина» Бартелеми, — оно является новым и, мы надеемся, последним доказательством подлинности отныне знаменитого тоста Бланки, существование которого они сначала все отрицали, а теперь готовы вцепиться друг другу в волосы из-за того, кто его удостоверит». XI «Сила истинного развития», употребляя одно из «проникновенно-прекрасных» арнольдовых выражений, состояла в следующем. 24 февраля Руге скомпрометировал перед заграницей как себя, так и немецкую эмиграцию. Те немногие эмигранты, которые еще имели какую-то склонность действовать вместе с ним, чувствовали, что теряют уверенность и не встречают поддержки. Арнольд сваливал все на раздоры в эмигрантской среде и сильнее прежнего настаивал на объединении. Будучи уже скомпрометированным, он жаждал нового повода скомпрометировать себя еще раз. Поэтому было решено использовать годовщину мартовской революции в Вене для организации немецкого банкета. Рыцарственный Виллих отказался принять в нем участие, ибо, принадлежа «гражданину» Луи Блану, он не мог действовать вместе с «гражданином» Руге, который принадлежал «гражданину» Ледрю. Бывшие депутаты Рейхенбах, Шрамм, Бухер и т. д. также избегали близости Арнольда. Зато явились, — не считая безгласных гостей, — Мадзини, Руге, Струве, Таузенау, Хауг, Ронге, Кинкель, и все они выступали с речами. Выступление Руге было «беспредельно глупым», как признают даже его друзья. Однако присутствовавшей немецкой публике предстояло испытать нечто большее. Шутовство Таузенау, стенания Струве, болтовня Хауга, причитания Ронге привели аудиторию в такое состояние, что большая часть ее разбежалась прежде, чем очередь дошла до оставленного на десерт выступления велеречивого Иеремии-Кинкеля[223]. Готфрид в качестве мученика, «от имени мучеников» и для мучеников произнес жалобное слово примирения, обращенное ко всем — «от рядового борца за конституцию и кончая красным республиканцем». Все они стенали на республиканский манер, а в отдельных случаях, как например Кинкель, даже на манер красных республиканцев, все они и то же время с раболепным восторгом пресмыкались перед английской конституцией, — противоречие, на которое газета «Morning Chronicle»[224] на следующее утро изволила обратить их внимание. Однако в тот же вечер Руге достиг-таки цели своих стремлений, как явствует из воззвания, наиболее блестящие места которого мы приводим: К НЕМЦАМ! «Граждане и друзья на родине! Мы, нижеподписавшиеся, учреждаем ныне — впредь до вашего распоряжения — комитет по германским делам» (безразлично каким). «Центральный комитет европейской демократии делегировал к нам Арнольда Руге, баденская революция — Густава Струве, венская революция — Эрнста Хауга, религиозное движение — Иоганнеса Ронге, тюрьма — Готфрида Кинкеля. Мы предложили социал-демократическим рабочим делегировать нам своего представителя. Братья немцы! События отняли у вас свободу… Мы знаем, что вы неспособны навсегда отказаться от вашей свободы; что же касается нас, то мы не пренебрегали ничем» (ни комитетами, ни манифестами, как это может засвидетельствовать Арнольд), «чтобы ускорить ее восстановление. Когда мы… когда мы поддержали и гарантировали мадзиниевский заем, когда мы… когда мы… учреждали священный союз народов в противовес нечестивому союзу их угнетателей, мы делали — мы это знаем — то. что вы от всей души желали, чтобы было сделано… Свобода ведет великий процесс против тиранов перед судом всемирного трибунала человечества» (пока Арнольд состоит прокурором, «тираны» могут спать спокойно). «…Пожары, убийства, опустошение, голод и банкротства вскоре станут всеобщим уделом Германии. Из Германии бросьте взгляд на Францию — она вся пылает негодованием, единодушное, чем когда-либо, стремится она к свободе» (кто, черт возьми, мог предвидеть второе декабря![225]). «Взгляните на Венгрию — даже хорваты встали на сторону свободы» (благодаря газете «Deutscher Zuschauer» и одежде из опилок, изобретенной Руге). «И верьте нам, — ибо мы знаем это, — Польша бессмертна» (им это доверил под секретом г-н Дараш). «Сила против силы, — такова справедливость, и близится ее час. И мы все сделаем для того, чтобы добиться создания временного правительства, более действенного» (ага!), «нежели предпарламент, и народной власти, более могущественной, нежели Национальное собрание (о том, чего добились эти господа, думая, что водят друг друга за нос, смотри ниже). «Наши проекты в области финансов и печати» (декреты №№ 1 и 2 сильного временного правительства — на управляющего таможней Христиана Мюллера возлагается проведение в жизнь настоящего постановления) «мы вам представим особо. Они представляют главным образом интерес лишь с деловой стороны. Широким общественным кругам достаточно знать, что каждое приобретение итальянского займа непосредственно содействует нашему комитету и нашему делу, и в настоящее время вы можете оказать нам практическую помощь главным образом усилением притока денежных средств. Деньги же мы сумеем претворить в общественнов мнение и в общественную силу» (Арнольд берется за дело претворения!). «…Мы говорим вам: подпишитесь на десять миллионов франков — и мы освободим континент! Немцы, помните…» (что вы поете баритоном и разводите костры на горах) «дайте нам ваши мысли» (на это в данный момент большой спрос, почти такой же, как на деньги), «ваш кошелек» (этого, смотрите, не забудьте!) «и вашу руку? Мы ожидаем, что ваше рвение будет увеличиваться в той же мере, в какой растет ваше порабощение, и что в решительный час ваша своевременная поддержка вполне подкрепит силы комитета» (в противном случае ему пришлось бы прибегнуть к спиртным напиткам, что противоречило бы густавовой совести). «На всех демократов возлагается распространение нашего воззвания». (Управляющий таможней Христиан Мюллер позаботится об остальном.) «Лондон, 13 марта 1851 г. Комитет по германским делам: Арнольд Руге, Густав Струве, Эрнст Хауг, Иоганнес Ронге, Готфрид Кинкель» Наши читатели знают Готфрида, знают Густава; «повторное появление» Арнольда тоже повторялось достаточно часто. Таким образом, остается охарактеризовать только двух членов «действенного временного правительства». Иоганнес Ронге, — или, как он любит называть себя в тесном кругу, просто Иоанн, — разумеется, не написал Апокалипсиса[226]. В нем нет ничего таинственного — это человек пошлый, банальный, пресный, как вода, или, вернее, как теплая водица для омовения. Как известно, Иоганнес стал знаменитым человеком потому, что не захотел, чтобы трирский священный хитон[227] был его заступником, хотя, право же, совершенно все равно, кто является заступником Иоганнеса. Когда появился Иоганнес, старик Паулюс пожалел о том, что Гегель умер, ибо теперь последний, конечно, уже не мог бы назвать его поверхностным человеком, а покойный Круг был рад тому, что умер и таким образом избежал опасности прослыть глубокомысленным. Иоганнес принадлежит к числу тех, часто встречающихся в истории личностей, которые через несколько столетий после того, как зародилось и успело усилиться какое-либо движение, преподносят некоей разновидности филистеров и восьмилетним младенцам содержание этого движения в самой тусклой и скучной форме, выдавая это за последнюю новость. Подобным ремеслом, разумеется, долго не проживешь, и наш Иоганнес очень скоро оказался в Германии в положении, становившемся день ото дня все более и более тягостным. Его бесцветная водичка, выцеженная из немецкого лжепросвещения, не находила больше спроса, и Иоганнес перебрался в Англию, где мы его видим подвизающимся без особенного успеха в роли конкурента падре Гавацци. Беспомощный, монотонный, скучный деревенский пастор стушевывался, конечно, перед пылким, эффектно актерствующим итальянским монахом, и англичане стали биться об заклад на большие суммы, споря, действительно ли этот нудный Иоганнес является тем человеком, который привел в движение столь глубокомысленную германскую нацию. Зато его утешил Арнольд Руге, открывший поразительное семейное сходство между немецким католицизмом нашего Иоганнеса и своим собственным атеизмом. Людвиг фон Хаук — бывший капитан австрийских императорских инженерных войск, впоследствии, в 1848 г., один из составителей выработанной в Вене конституции, а затем командир батальона венской национальной гвардии, защищал 30 октября с львиной отвагой городские ворота от императорских войск и покинул пост лишь после того, когда все было потеряно. После этого он бежал в Венгрию, присоединился к армии Бема в Трансильвании, в которой благодаря своей храбрости дослужился до полковника генерального штаба. После капитуляции Гёргея при Вилагоше[228] Людвиг Хаук был взят в плен и погиб геройской смертью на одной из тех многочисленных виселиц, которыми австрийцы покрыли Венгрию из чувства мести за свои постоянные поражения и неистовой досады по поводу покровительства русских, ставшего для них невыносимым. Наш Хауг долго сходил в Лондоне за повешенного Хаука, офицера, прославившегося в венгерской кампании. Ныне как будто установлено, что он не является покойным Хауком. Подобно тому как после падения Рима он должен был благосклонно согласиться на то, чтобы Мадзини произвел его в импровизированные генералы, он не мог теперь отказаться от превращения его Арнольдом в представителя венской революции и члена сильного временного правительства. Впоследствии он читал в музыкальном сопровождении эстетические лекции об экономической основе всемирно-исторической космогонии с геологической точки зрения. Среди эмиграции этот меланхоличный человек известен под прозвищем глупой скотинки, или, как говорят французы, la bonne bete. Желания Арнольда были превзойдены. Манифест, сильное временное правительство, заем в десять миллионов франков — и к тому же какое-то подобие еженедельного листка со скромным названием ««Kosmos», под редакцией генерала Хауга. Манифест не имел никаких последствий — его никто не читал; «Kosmos» испустил дух от истощения на третьем же номере; денег не поступало; сильное временное правительство распалось на свои составные части. В «Kosmos» прежде всего были напечатаны объявления о лекциях Кинкеля, о сборе достойным Виллихом денег в пользу шлезвиг-гольштейнских эмигрантов и о пивной Гёрингера. Кроме того, в нем был помещен среди прочего пасквиль Арнольда. Старый шут приписывает себе вымышленного хлебосольного друга, некоего Мюллера в Германии, выставляя себя в качестве ее старейшины. Мюллер удивляется всему, что читает в газетах об английском гостеприимстве, и выражает опасение, как бы это «сибаритство» не помешало старейшине заниматься «государственными делами». Впрочем, пусть себе, ведь по возвращении в Германию старейшине ввиду занятости государственными делами придется отказаться от гостеприимства Мюллера. В заключение Мюллер восклицает: «Значит, не предатель Радовиц, а Мадзини, Ледрю-Роллен, гражданин Виллих, Кинкель и вы сами» (Арнольд Руге) «были приглашены в Виндзор!». Если «Kosmos» тем не менее и почил в бозе уже на третьем номере, то зависело это во всяком случае не от неуменья его сбывать — на всех английских митингах его подсовывали ораторам с просьбой рекомендовать его, ибо он защищает-де именно их принципы. Не успело появиться обращение о десятимиллионном зaймe, как неожиданно прошел слух, будто в Сити собирают денежные пожертвования по подписному листу для отправки Струве (в сопровождении Амалии) в Америку. «Когда комитет постановил выпускать немецкий еженедельник и поручить редактирование его Хаугу, Струве, который сам желал стать редактором и дать листку название «Deutscher Zuschauer», запротестовал и решил перебраться в Америку». Таковы сведения, сообщаемые нью-йоркской «Deutsche Schnellpost». Газета умалчивает, — и Гейнцен имел на это свои основания, — что Мадзини вообще вычеркнул имя Густава из списка немецкого комитета, как сотрудника «Deutsche Londoner Zeitung» герцога Брауншвейгского. Густав немедленно пересадил свой «Deutscher Zuschauer» на нью-йоркскую почву. Однако вскоре пришла депеша из-за океана: «Густавов «Zuschauer» скончался». По утверждению Густава, это произошло не от недостатка в подписчиках вообще, а также не от того, что он не располагал досугом для писания, а единственно из-за недостатка в платежеспособных подписчиках. По так как теперь демократическую обработку роттековой «Всеобщей истории» невозможно откладывать дольше, — а начата эта работа была пятнадцать лет тому назад, — то он, Густав, хочет дать подписчикам обещанное число листов не в виде газеты «Deutscher Zuschauer», а в виде всеобщей истории; он вынужден, однако, просить о внесении подписной платы вперед, и эта просьба при данных обстоятельствах не должна быть ему поставлена в вицу. Пока Густав находился по сю сторону океана, Гейнцен объявлял его наряду с Руге величайшим человеком Европы. Но не успел он оказаться по ту сторону, как между ними возникла отчаянная потасовка. Густав пишет: «Когда Гейнцен 6 июня в Карлсруэ увидел, что выкатывают пушки, он сбежал в дамском обществе в Страсбург». Гейнцен, со свози стороны, называет Густава «гадалкой». «Kosmos» погиб как раз в тот момент, когда Арнольд расточал ему высокопарные похвалы в газете строго правоверного Гейнцена, а сильное временное правительство перестало существовать как раз в то время, когда Родомонт-Гейнцен провозгласил в отношений к нему «воинское повиновение». Пристрастие Гейнцена к военному делу в мирное время хорошо известно. «Вскоре после отъезда Струве вышел из комитета также и Кинкель, и комитет таким образом перестал функционировать» (нью-йоркская «Deutsche Schnellpost» № 23). «Сильное временное правительство» свелось, следовательно, к гг. Руге, Ронге и Хаугу. Даже Арнольд понял, что с подобной троицей не только нельзя создать нового мира, но и вообще ничего нельзя создать; тем не менее, при всех перестановках, вариантах и комбинациях именно эта троица оставалась ядром его последующих комитетских образований. Но этот неугомонный человек все еще не хотел признать, что его карта бита; для него все дело было только в том, чтобы вообще делалось и предпринималось что-либо такое; это придавало бы ему вид человека, занятого глубокими политическими комбинациями, а прежде всего давало бы основание с важным видом судить обо всем, совершать «повторное появление» и предаваться самодовольной болтовне. Что же касается Готфрида, то его драматические лекции для respectable City-merchants {респектабельных негоциантов из Сити. Ред.} не предоставляли ему ни малейшей возможности скомпрометировать себя. С другой стороны, было совершенно ясно, что манифест 13 марта преследовал лишь одну цель: подкрепить узурпированное г-ном Арнольдом положение в Европейском центральном комитете. Сам Готфрид должен был впоследствии в этом убедиться, но признавать это было совершенно не в его интересах. Этим и вызвано было то обстоятельство, что вскоре после обнародования манифеста в «Kolnische Zeitung» dama acerba {суровая дама. Pед.} Моккель поместила следующее заявление: муж ее вовсе не подписывал воззвания, он вообще не думает о публичных займах и успел уже выйти из только что образовавшегося комитета. В ответ на это Арнольд в нью-йоркской «Schnellpost» насплетничал о том, что Кинкель из-за болезни, правда, не подписал манифеста, но одобрил его; план манифеста составлялся у него в комнате, он же взялся переправить часть экземпляров в Германию, а из комитета он вышел потому, что председателем был избран не он, а генерал Хауг. Это заявление Арнольд сопроводил резкими выпадами против тщеславия Кинкеля — «абсолютного мученика», «демократического Беккерата», — и выразил также подозрение по адресу г-жи Иоганны Кинкель, к услугам которой были такие запретные газеты, как «Kolnische Zeitung». Между тем семена, брошенные Арнольдом, пали отнюдь не на каменистую почву. «Прекраснодушный» Готфрид решил перехитрить соперников и раздобыть революционный клад для себя одного. Не успела Иоганна дезавуировать в «Kolnische Zeitung» это смехотворное предприятие, как наш Готфрид стал на собственный страх и риск призывать в заокеанских газетах к займу, добавляя при этом, что деньги надлежит посылать человеку, «пользующемуся наибольшим доверием». Кто другой мор быть этим человеком, как не Готфрид Кинкель? Для начала он требовал взноса в 500 фунтов стерлингов для изготовления революционных бумажных денег. Руге, не мешкая ни минуты, объявил в «Schnellpost», что он, Руге, является казначеем демократического Центрального комитета и что у него можно приобретать уже готовые мадзиниевские ассигнации. Таким образом, тот, кто желает потерять 500 фунтов стерлингов, поступит во всяком случае разумнее, приобретая уже готовые ассигнации, нежели спекулируя еще несуществующими. А Родомонт-Гейнцен возопил, что если г-н Кинкель не бросит своих проделок, его открыто объявят «врагом революции». Тогда Готфрид опубликовал ответные статьи в «New-Yorker Staatszeitung»[229], прямой сопернице «Schnellpost». Таким образом, по ту сторону Атлантического океана война уже велась по всем правилам искусства, в то время как по сю сторону еще обменивались поцелуями Иуды. Однако Готфрид, как он вскоре сам заметил, все же несколько шокировал демократических добродетельных филистеров, бесцеремонно объявив национальный заем от своего собственного имени. Чтобы исправить эту ошибку, он придумал теперь объяснение: «Это воззвание о денежных взносах для распространения немецкого национального займа исходило отнюдь не от него, — по всей вероятности, его именем воспользовались для этого его чрезмерно усердные друзья в Америке». Объяснение это вызвало следующий ответ в нью-йоркской «Schnellpost» со стороны доктора Висса: «Воззвание, призывающее к агитации в пользу немецкого займа, было прислано мне, как это широко известно, Готфридом Кинкелем с настоятельной просьбой опубликовать его во всех немецких газетах. И я готов представить это письмо каждому, кто в этом сомневается. Если это заявление исходит действительно от Кинкеля, то делом его чести является публично от него отказаться и обнародовать мою переписку с ним, чтобы показать партии, насколько независимо, и уж никак не «чрезмерно усердно», держался я по отношению к нему. В противном случае обязанностью Кинкеля является публично назвать почтенного автора этого заявления злостным клеветником или, если здесь имело место недоразумение, легкомысленным и бессовестным болтуном. Я, со своей стороны, не могу верить в столь неслыханное вероломство Кинкеля. Доктор К. Висс» (нью-йоркский «Wochenblatt der Deutschen Schnellpost»). Что должен был делать Готфрид? Он вновь выставил вперед aspra donzella {строгую даму. Ред.}, он объявил, что «легкомысленным и бессовестным болтуном» была Моккель; он утверждал, что его супруга вела все дело с займом за его спиной. Тактика эта, спора нет, была весьма «эстетична». Ибо Готфрид наш был гибок словно тростник; он то выступал вперед, то прятался на задний план, то брался за предприятие, то отрекался от него — в зависимости от того, куда, по его мнению, дул ветер народных чувств. Позволив эстетствующей буржуазии устраивать в Лондоне в честь его, мученика революции, официальные торжества и празднества, — он в то же время за спиной этой буржуазии уже находился в запретных сношениях с эмигрантскими низами, представляемыми Виллихом. Живя в условиях, которые, по сравнению с его скромным положением в Бонне, могли считаться блестящими, он в то же время писал в Сент-Луис, что он живет, как подобает «представителю бедноты». Итак, он соблюдал установленный этикет по отношению к буржуазии и в то же время почтительно расшаркивался перед пролетариатом. Но будучи человеком, у которого сила воображения значительно преобладала над голосом рассудка, он не мог избежать грубости и высокомерия выскочки, что оттолкнуло от него не одного чопорного добродетельного мужа эмиграции. Весьма характерной для него была его статья в «Kosmos» по поводу промышленной выставки. Больше всего его поразило огромное зеркало, выставленное в Хрустальном дворце. Объективный мир сводится у него к зеркалу, субъективный мир — к фразе. Якобы для того, чтобы раскрыть красивую сторону всех вещей, он кокетничает{13} с ними и это кокетничание называет смотря по надобности то поэзией, то жертвоприношением, то религией. В сущности говоря, все это ему нужно лишь для того, чтобы кокетничать с самим собой. При этом он не в силах избежать того, чтобы на практике выступила наружу некрасивая сторона, когда воображение прямо превращается в лживость, а экстравагантность — в подлость. Впрочем, можно было заранее предсказать нашему Готфриду, что коль скоро он попал в руки таких многоопытных паяцев, как Густав и Арнольд, ему придется скинуть с себя львиную шкуру. XII Промышленная выставка открыла новую эру в жизни эмиграции. Огромная волна немецких филистеров наводнила в течение лета Лондон; немецкий филистер чувствовал себя неуютно в обширном, наполненном гулом Хрустальном дворце и во много раз более огромном и шумном, грохочущем, орущем Лондоне; покончив с выполнением в ноте лица обременительных дневных трудов по обязательному обозрению выставки и прочих достопримечательностей, он отдыхал в ресторане «Ханау» Шертнера или ресторане «Звезда» Гёрингера, где все пропахло пивным уютом, табачным дымом и трактирной политикой. Здесь «была налицо вся родина», и вдобавок здесь можно было безвозмездно лицезреть величайших мужей Германии. Они сидели тут же — члены парламента, депутаты палат, полководцы, клубные ораторы прекрасной поры 1848 и 1849 гг., дымя своими трубками, как и все прочие смертные, и изо дня в день с непоколебимым достоинством обсуждая coram publico {при всем народе. Ред.} высшие интересы родины. Это было место, где немецкий мещанин, если, впрочем, ему не жаль было потратиться на несколько бутылок весьма дешевого вина, мог досконально узнать все, что происходило на самых секретных совещаниях европейских кабинетов. Здесь можно было узнать с точностью до минуты, когда «начнется штурм». При этом штурмовали одну бутылку за другой, и сторонники разных мнений расходились по домам, хотя и нетвердо держась на ногах, но поддерживаемые сознанием того, что они внесли свою ленту в дело спасения родины. Никогда эмиграция не выпивала больше с меньшими затратами, чем за время массового пребывания в Лондоне платежеспособных филистеров. Действительной организацией эмиграции была именно эта достигшая наивысшего расцвета благодаря выставке трактирная организация под эгидой Силена-Шертнера[230] на улице Лонг Эйкр. Здесь постоянно заседал подлинный центральный комитет. Все прочие комитеты, организации, партийные группы были чистым блефом, патриотическими арабесками этого истинно германского тунеядствующего кабацкого завсегдатайства. К тому времени эмиграция получила еще подкрепление в лице новоприбывших гг. Мейена, Фаухера, Зигеля, Гёгга, Фиклера и пр. Мейен, этот ежик, по ошибке родившийся на свет божий без колючек, был уже некогда под именем Пуансине обрисован Гёте следующим образом: «В литературе, как и в обществе, встречаются такие маленькие, забавные, кругленькие фигурки, одаренные каким-нибудь талантом, весьма навязчивые и назойливые, и, поскольку каждый может легко смотреть на них свысока, они дают повод для всякого рода развлечений. Между тем эти личности ухитряются многое выиграть при этом: они живут, действуют, их имена называют и им оказывают хороший прием. Если их постигает неудача, они не смущаются, воспринимают ее как единичный случай и ожидают в будущем самых больших успехов. Во французском литературном мире такой фигурой является Пуансине. Прямо невероятно, что над ним проделывали, во что его втравляли, как его мистифицировали, и даже его трагическая смерть — он утонул в Испании — не может ослабить комического впечатления, которое производила его жизнь, подобно тому как фейерверковая петарда вовсе не приобретает значения из-за того, что она, потрещав некоторое время, разрывается с еще более сильным треском»[231]. Напротив, современные писатели говорят о нем следующее: Эдуард Мейен принадлежал к числу «решительных», представлявших разум Берлина в противовес массовой глупости остальной Германии. Вместе со своими друзьями Мюгге, Клейном, Цабелем, Булем и прочими он также образовал в Берлине «союз мейенских жуков». Каждый из этих мейенских жуков сидел на своем особом листке — Эдуард Мейен сидел на мангеймском вечернем листке {«Mannheimer Abendzeitung». Ред.}, на котором он с величайшими усилиями еженедельно откладывал зеленую корреспондентскую колбаску. Мейенский жук добился даже того, что ему в 1845 г. предстояло редактировать ежемесячный журнал; с разных сторон поступали к нему труды, издатель ждал, но все предприятие расстроилось оттого, что Эдуард, после того как он в течение восьми месяцев обливался со страху холодным потом, заявил, что не может справиться с проспектом издания. Так как наш Эдуард принимает все свои ребячества всерьез, после мартовской революции в Берлине он прослыл человеком, серьезно относящимся к движению. В Лондоне он вместе с Фаухером участвовал в немецком издании «Illustrated London News», выходившем под редакцией и под цензурой старухи, лет двадцать тому назад понимавшей немного по-немецки, но был устранен от дел за бесполезностью, так как с большим упорством пытался пристроить в этот журнал свою глубокомысленную статью о скульптуре, напечатанную уже лет за десять до того в Берлине. Когда же кинкелевская эмиграция назначила его впоследствии своим секретарем, он увидел, что является практическим homme d'etat {государственным деятелем. Ред.}, и возвестил в литографированном циркуляре, что он достиг «устойчивой точки зрения». После его смерти в наследии мейенского жука будет найдено множество заглавий для предполагавшихся трудов. С Мейеном неразрывно связан его коллега по редакции и секретарству Оппенхейм. Об Оппенхейме говорят, будто он вовсе не человек, а аллегорическая фигура; а именно будто бы сама богиня скуки явилась на свет во Франкфурте-на-Майне в образе сына еврея-ювелира. Когда Вольтер писал: «Tous les genres sont bons excepte le genre ennuyeux»{14}, он предчувствовал появление нашего Генриха Бернхарда Оппенхейма. Мы лично предпочитаем в Оппенхейме писателя оратору. От писаний его можно спастись, от устных выступлений — c'est impossible {невозможно. Ред.}. Пифагорейское учение о переселении душ, быть может, и правильно, но имя, которое в прежние столетия носил Генрих Бернхард Оппенхейм, нельзя установить, так как никогда еще ни в каком столетии человек не составлял себе имени несносной болтовней. Жизнь его воплощается в трех блестящих моментах: редактор Арнольда Руге, редактор Брентано, редактор Кинкеля. Третьим в этой компании является г-н Юлиус Фаухер. Он принадлежит к тем представителям берлинской гугенотской колонии, которые с большой предприимчивостью умеют использовать свой маленький талант. На арену общественной деятельности он вступил первоначально в роли прапорщика Пистоля[232] партии сторонников свободы торговли, в качестве какового он и был нанят гамбургскими купцами для ведения пропаганды. Во время революционного брожения они разрешили ему проповедовать свободу торговли под свирепо выглядевшей вывеской анархии. Когда это перестало соответствовать моменту, его устранили, и он вместе с Мейеном стал редактировать берлинскую «Abend-Post». Под тем предлогом, что государство вообще должно быть уничтожено и должна быть введена анархия, он уклонился здесь от опасной, оппозиции существующему. правительству, и, когда впоследствии листок погиб из-за отсутствия денег для внесения залога, «Neue Preusische Zeitung» выразила сожаление о судьбе Фаухера, единственного достойного, писателя среди демократов. Эти сердечные отношения с «Neue Preusische Zeitung» вскоре стали настолько интимными, что наш Фаухер начал в Лондоне писать корреспонденции для этой газетки. Участие Фаухера в эмигрантской политике было непродолжительным. Его увлечение фритредерством показало ему, что его призванием является предпринимательская деятельность, к которой он с рвением возвратился, и в этой области им был выполнен до сих пор никем не превзойденный труд — составлен прейскурант на его статьи по весьма усовершенствованной подвижной шкале. Благодаря нескромности «Breslauer Zeitung» этот документ стал известен широкой публике. Этому созвездию трех светил берлинского разума противостояло созвездие трех столпов южногерманского постоянства убеждений в лице Зигеля, Фиклера, Гёгга. Франц Зигель, по описанию его друга Гёгга, — «небольшой, безбородый, всем своим существом напоминающий Наполеона человек»; он, согласно тому же Гёггу, «герой», «человек будущего», «прежде всего гениальный, одаренный творческим духом, неустанно занятый новыми планами человек». Между нами говоря, генерал Зигель — это молодой баденский лейтенант с характером и амбицией. Из истории военных кампаний французской революции он вычитал, что скачок от младшего лейтенанта до главнокомандующего — сущий пустяк, и с этого момента безбородый человечек твердо решил, что Франц Зигель должен когда-нибудь стать главнокомандующим какой-либо революционной армией. Основанная на сходстве имен популярность в армии и баденское восстание 1849 г. помогли исполниться его желанию. Известны сражения, которые он дал на Неккаре и которых он не давал в Шварцвальде, а его отступление в Швейцарию даже его враги признают своевременным и правильным маневром. Его военные планы свидетельствуют о знании истории революционных войн. Дабы оставаться верным революционным традициям, герой Зигель, не считаясь с неприятелем, не заботясь об операционной линии и путях отхода и прочих подобных мелочах, добросовестно переходил с одной позиции, избранной в свое время Моро, на другую, и если ему, несмотря на это, не удалось пародировать походы Моро во всех деталях, если он, вместо того чтобы перейти Рейн у Парадиза, перешел его при Эглизау, то это следует приписать ограниченности неприятеля, не сумевшего оценить столь ученый маневр. В своих приказах и инструкциях Зигель выступает в качестве проповедника и обнаруживает в них, правда, меньше стилистического блеска, но зато больше убеждения, нежели Наполеон. Впоследствии он занялся разработкой руководства для революционных офицеров всех родов войск; из этого руководства мы имеем возможность привести следующее важное место: «Революционный офицер должен, по уставу, иметь при себе: 1 головной убор, кроме фуражки, 1 саблю с ножнами, 1 черно-красно-желтый шарф из верблюжьей шерсти, 2 пары черных кожаных перчаток, 2 мундира, 1 плащ, 1 пару суконных брюк, 1 галстук, 2 пары сапог или башмаков, 1 чемодан из черной кожи в 12 дюймов длины, 10 дюймов высоты и 4 ширины, 6 сорочек, 3 пары кальсон, 8 пар чулок, 6 носовых платков, 2 полотенца, 1 прибор для бритья и умыванья, 1 письменный прибор, 1 грифельную доску установленного образца, 1 платяную щетку, 1 устав полевой службы». Йозеф Фиклер (по характеристике его друга Гёгга) — «образец честного, решительного, непоколебимо-твердого народного деятеля, человек, который привлек на свою сторону все население Верхнего Бадена и Приозерного края и своими многолетними страданиями ц борьбой снискал почти такую же популярность, как Брентано». У Йозефа Фиклера, как и подобает честному, решительному и непоколебимому народному деятелю, было жирное, похожее на полную луну лицо, толстая шея и соответствующего объема брюхо. О его прежней жизни известно лишь, что он добывал себе пропитание с помощью одного художественного резного изделия XV века и реликвий, которые имели какое-то отношение к Констанцскому собору[233], демонстрируя эти достопримечательности за деньги путешественникам и иностранным любителям искусства и при этом сбывая им «старинные» сувениры, которые Фиклер, как он сам с большим самодовольством рассказывает, постоянно снова заказывал «под старинные образцы». Единственными его подвигами во время революции были, во-первых, его арест по распоряжению Мати по окончании заседаний Предпарламента[234] и, во-вторых, его арест в Штутгарте по распоряжению Рёмера в июне 1849 года. Благодаря этим арестам, он счастливо избежал опасности скомпрометировать себя. Позднее вюртембергские демократы внесли за него залог в 1000 гульденов, а Фиклер удалился инкогнито в Тургау и, к величайшему огорчению поручителей, так и не дал больше о себе знать. Нельзя отрицать, что в газете «Seeblatter» он удачно выражал типографской краской мысли и чувства приозерных крестьян. Впрочем, принимая во внимание своего друга Руге, он придерживается того мнения, что от долгого учения глупеют; поэтому он и предостерегал своего друга Гёгга от посещений библиотеки Британского музея. Амандус Гёгг, как видно уже по имени его, — человек любезный{15}, «правда, не блестящий оратор, но честный гражданин, скромное и благородное поведение которого всюду завоевывает ему друзей» («Westamerikanische Blatter»). Из благородства Гёгг сделался членом временного правительства в Бадене, где он, по собственному его признанию, ничего не мог предпринять против Брентано, и из скромности позволил присвоить себе титул: господин диктатор. Никто не отрицает того, что достижения его в качестве министра финансов были скромны. Из скромности же он в последний день перед уже объявленным общим отступлением в Швейцарию провозгласил в Донауэшингене «социально-демократическую республику». Впоследствии он из той же скромности заявил (Янусу-Гейнцену[235] в 1852 г.), что 2 декабря парижский пролетариат потерпел поражение потому, что он не обладал его, Гёгга, баденско-французской, а также свойственной французской Южной Германии демократической проницательностью. Кто желает иметь дальнейшие доказательства скромности Гёгга и существования «партии Гёгга», тот может найти их в им самим написанном сочинении «Ретроспективный взгляд на баденскую революцию» и т. д., Париж, 1850. Венцом его скромности было то, о чем он заявил на публичном собрании в Цинциннати: «После банкротства баденской революции к нему в Цюрих явились уважаемые люди и заявили, что в баденской революции участвовали представители всех германских племен, — поэтому ее следует рассматривать как общегерманское дело, точно так же как римская революция является революцией общеитальянской. Он, Гёгг, был тем деятелем, который продержался до конца, — поэтому ему надлежало бы стать немецким Мадзини. Из скромности он отказался». Отчего же? Тот, кто уже раз был «господином диктатором» и к тому же является закадычным другом «Наполеона»-Зигеля, мог «стать» и «немецким Мадзини». Когда благодаря прибытию этих лиц, а также им подобных, менее выдающихся деятелей, эмиграция оказалась au grand complet {в полном сборе. Ред.}, она могла приступить к великим боям, о которых читатель узнает в следующей песне. XIII Chi mi dara la voce e le parole, (Bojardo. Orlando innam. Canto 27{16}.) Кто даст звучанье этой скромной лире, С пополнением эмиграции этими последними fashionable arrivals {новоприбывшими знаменитостями. Ред.} наступил момент, когда она должна была попытаться «сорганизоваться» в больших масштабах, придать себе окончательную форму. Следовало ожидать, что попытки эти поведут к новым и ожесточенным враждебным действиям. Чернильная война на столбцах заокеанских газет достигла теперь своего апогея. Личные дрязги, интриги, козни, безудержное самовосхваление — на такие пакости уходили все силы великих мужей. Но эмиграция благодаря этому кое-что приобрела, а именно свою собственную историю, протекающую вне всемирной истории, свою цеховую политику наряду с официальной политикой. В этих внутренних раздорах эмиграция даже черпала чувство внутренней значительности. Так как за всеми этими домогательствами и столкновениями скрываются расчеты на деньги демократической партии, на этот святой Граль[236], то трансцендентальное соперничество, спор о бороде императора Барбароссы весьма быстро превращается в заурядный конкурс шутов. Тот, кто пожелает изучить эту войну мышей и лягушек[237] по первоисточникам, найдет все необходимые документы в нью-йоркской «Schnellpost», «New-Yorker Deutsche Zeitung», «Allgemeine Deutsche Zeitung», «Staatszeitung», в балтиморском «Correspondent», в «Wecker» и прочих немецко-американских газетах. Между тем это кокетничанье выдуманными союзами и вымышленными заговорами, вся эта эмигрантская шумиха не осталась без некоторых серьезных последствий. Она дала правительствам желанный повод подвергнуть аресту множество людей в Германии, повсюду внутри страны зажать в тиски всякое движение и нагнать страх на немецкого мещанина, пользуясь жалкими лондонскими соломенными чучелами, как огородными пугалами. Отнюдь не будучи сколько-нибудь опасными для существующего положения, эти герои эмиграции страстно желали лишь одного — чтобы в Германии наступила мертвая тишина, среди которой тем громче звучал бы их голос, я чтобы уровень общественного сознания стал настолько низким, что даже люди их калибра казались бы значительными величинами. Новоприбывшие южногерманские добродетельные мужи, не будучи связаны ни с одной из сторон, оказались в Лондоне в самом выгодном положении: они могли выступить в роли примирителей различных клик и собрать в то же время всю эмиграцию в качестве хора вокруг выдающихся личностей. Их высоко развитое, чувство долга повелевало им не упустить представлявшегося случая. Но в то же время они видели Ледрю-Роллена, который был с ними в этом отношении вполне солидарен, уже восседающим в кресле президента Французской республики. Им как ближайшим соседям Франции важно было получить признание от временного правительства Франции в качестве временных правителей Германии. Зигелю в особенности важно было, чтобы Ледрю гарантировал ему пост главнокомандующего. Однако путь к Ледрю лежал только через труп Арнольда. К тому же им тогда еще импонировала личина сильного характера, которую носил Арнольд, и он должен был как философское северное сияние озарить их южногерманские сумерки. Поэтому они обратились прежде всего к Руге. На другой стороне находились, во-первых, Кинкель со своим ближайшим окружением — Шурцем, Штродтманом, Шиммельпфеннигом, Теховым и т. д., затем бывшие депутаты парламента и палат во главе с Рейхенбахом, с Мейеном и Оппенхеймом в качестве литературных представителей, наконец, Виллих со своей дружиной, остававшейся, однако, в тени. Роли распределены были здесь таким образом: Кинкель, в качестве страстоцвета, представлял немецких филистеров вообще; Рейхенбах, будучи графом, представлял буржуазию; Виллих же, будучи Виллихом, представлял пролетариат. Об Августе Виллихе надо прежде всего сказать, что Густав всегда питал к нему тайное недоверие из-за его остроконечного черепа, в котором непомерно развитый бугор самомнения подавляет все остальные умственные способности. Некий немецкий филистер, увидав бывшего лейтенанта Виллиха в одной из лондонских пивных, в страхе схватился за свою шляпу и выбежал, восклицая: «Боже мой, до чего же этот человек похож на господа нашего Иисуса Христа!». Дабы усилить это сходство, Виллих незадолго до революции работал некоторое время плотником. Потом, во время баденско-пфальцской кампании он выступил в качестве предводителя партизан. Предводитель партизан, этот потомок староитальянских кондотьеров, представляет собой своеобразное явление в современных войнах, в особенности в Германии. Предводитель партизан, привыкший действовать на собственный страх и риск, противится всякому общему верховному командованию. Его партизаны подчиняются только ему, но и он всецело зависит от них. Дисциплина в добровольческом отряде носит поэтому весьма своеобразный характер: смотря по обстоятельствам, она бывает то варварски строга, то — и это чаще всего — в высшей степени слаба. Предводитель партизан не может постоянно вести себя властно и повелительно — ему часто приходится угождать своим партизанам, задабривать каждого из них в отдельности вещественным проявлением своей милости. Обычные воинские качества здесь могут принести мало пользы, и для того, чтобы держать подчиненных в повиновении, храбрость должна быть подкреплена другими свойствами. Если даже предводитель лишен благородства, то он должен обладать хотя бы благородным сознанием, необходимым дополнением которого являются коварство, шпионство и интриганство и замаскированная низость на практике. Таким путем не только снискивают расположение своих солдат, но подкупают также и жителей, обманывают врага и получают признание как яркая личность, особенно со стороны противника. Всего этого, однако, недостаточно, чтобы держать в руках добровольческий отряд, большинство которого либо с самого начала состоит из люмпен-пролетариата, либо же вскоре ему уподобляется. Для этого нужна высшая идея. Поэтому предводителю добровольческого отряда необходимо обладать квинт-эссенцией навязчивых идей, он должен быть человеком принципа, которого неотступно преследует сознание своей миссии освободителя мира. Проповедями перед строем и постоянной назидательной пропагандой в личных беседах с каждым из солдат он должен внушить понимание этой высшей идеи своим солдатам и превратить таким образом весь отряд в своих сыновей по духу. Если эта высшая идея имеет спекулятивный, энергичный характер и возвышается над уровнем обычного рассудка, если она имеет известные гегельянские черты, — подобно той, которую генерал Виллизен пытался привить прусской армии[238], — тем лучше. Таким образом, благородное сознание внушается каждому отдельному партизану и подвиги всего отряда приобретают благодаря этому характер спекулятивного священнодействия, значительно возвышающего их над обычной бездумной смелостью; а слава подобного отряда основывается не столько на его действиях, сколько на его мессианском призвании. Отряду можно придать еще большую стойкость, если заставить всех бойцов поклясться, что они не переживут крушения дела, за которое сражаются, и предпочтут скорее с пением священных песен дать себя перерезать вплоть до последнего человека у последней пограничной яблони. Совершенно естественно, что подобный отряд и подобный предводитель должны чувствовать себя оскверненными общением с обыкновенными мирскими воинами и при каждом удобном случае должны стараться либо отделиться от армии, либо немедленно избавить себя от общества неверных; ничто не может быть для них ненавистнее больших воинских соединений и большой войны, в которой поддерживаемое высшим вдохновением коварство может сделать слишком мало, если оно пренебрегает обычными правилами военного искусства. Таким образом, предводитель партизан должен быть в полном смысле слова крестоносцем: он должен совместить в одном лице Петра Пустынника и Вальтера Голяка. Беспутному образу жизни своего разношерстного отряда он должен противопоставить свою личную добродетель. Никто не смеет напоить его допьяна, и сам он должен предпочитать прикладываться к своей бутылке втайне от всех, хотя бы ночью в постели. Если ему по слабости человеческой случится возвращаться в казарму в неурочное, ночное время, чрезмерно вкусив от благ земных, то он никогда не пойдет в ворота, а предпочтет обойти вокруг и перелезть через стену, чтобы никого не вводить в соблазн. К женским прелестям он должен оставаться равнодушным, но зато хорошее впечатление будет производить, если он время от времени будет давать приют на своем ложе какому-нибудь портновскому подмастерью, как поступал Кромвель со своими унтер-офицерами; вообще же он не должен быть чересчур аскетичен в своем образе жизни. Так как за cavaliere della ventura {рыцарем — искателем приключений. Ред.} стоят cavalieri del dente {рыцари, орудующие челюстями, прихлебатели. Ред.} его отряда, пробавляющиеся преимущественно за счет реквизиций и дарового постоя, а Вальтеру Голяку чаще всего приходится смотреть на это сквозь пальцы, — то уже в силу одного этого необходимо постоянное присутствие Петра Пустынника с готовым утешением, что подобного рода неприятные меры принимаются исключительно ради спасения отечества, а, следовательно, и в интересах самих пострадавших. Все эти качества предводителя партизан во время войны проявляются также и в мирное время, правда, претерпев некоторые изменения не совсем благоприятного характера. Прежде всего он должен сохранить ядро для нового отряда и постоянно рассылать унтер-офицеров— вербовщиков. Это ядро, состоящее главным образом из остатков добровольческого отряда и эмигрантской черни, содержится в казармах то ли за счет правительства (например, в Безансоне[239]), то ли как-нибудь иначе. Жизнь в казармах должна быть освящена идеей; это достигается посредством казарменного коммунизма, благодаря которому презрение к обычной гражданской деятельности приобретает высший смысл. Но так как такая коммунистическая казарма не подчиняется более воинскому уставу, а подчинена только нравственному авторитету и заповеди самопожертвования, то в ней дело не обходится без потасовок из-за общей кассы, причем случается, что тумаки выпадают и на долю нравственного авторитета. Если где-нибудь поблизости находится союз ремесленников, то его могут использовать в качестве вербовочного пункта для пополнения всепьянейшего отряда рекрутами, причем ремесленникам рисуют перспективы разгульной жизни и партизанских приключений в будущем как вознаграждение за их нынешний тяжкий труд. Кроме того, иногда удается устроить так, чтобы, ввиду высокого принципиального значения данной казармы для будущности пролетариата, союз ремесленников вносил денежные суммы на содержание отряда. Как в казарме, так и в союзе проповедь и патриархально-фамильярные манеры в личном обращении должны оказывать свое влияние. Партизан и в мирное время не теряет абсолютно необходимой ему непоколебимой уверенности, и подобно тому как он на войне после каждого поражения всегда предсказывал на завтрашний день победу, так и теперь он постоянно возвещает моральную несомненность и физическую необходимость того, что это «начнется» никак не позже, чем через две недели — и именно пресловутое это. Так как ему непрестанно нужно иметь перед собой врага и так как благородным всегда противостоят бесчестные, то он среди последних будет обнаруживать яростную враждебность по отношению к себе и убеждаться в том, что бесчестные из одной ненависти к его заслуженной популярности задумали его отравить или заколоть; поэтому он всегда будет держать у себя под подушкой длинный нож. Подобно тому как на войне предводитель партизан не может достигнуть никаких успехов, если он не воображает, что население его боготворит, точно так же и в мирное время он даже при отсутствии у него действительных политических связей непрестанно их предполагает или воображает, что порой приводит к удивительным мистификациям. Талант по части реквизиций и дарового постоя вновь проявляется в форме приятной паразитической жизни. Наоборот, строгий нравственный аскетизм нашего Роланда, как все благородное и великое, подвергается в мирное время тяжким испытаниям. Боярдо говорит в песне 24-й: Турпин о графе Брава говорит, Но известно также, что впоследствии граф Брава потерял рассудок из-за очей прекрасной Анджелики, и Астольф принужден был разыскивать этот рассудок на луне, как это очаровательно изобразил мессер Лодовико Ариосто[240]. Наш современный Роланд, однако, спутал себя с самим поэтом, рассказывающим о себе, что и он от любви потерял рассудок и искал его с помощью губ и рук на груди своей Анджелики, причем случилось так, что в благодарность его выгнали из дома. — В политике предводитель партизан обнаруживает свою непревзойденную искушенность во всех способах ведения малой войны. В соответствии с самим значением слова «партизан» он переходит от одной партии к другой{17}. Мелкие интриги, жалкие увертки, а порой и ложь, выступающее под видом нравственного негодования коварство проявляются у него как естественные признаки благородного сознания, и полный веры в свою миссию и в высший смысл своих слов и поступков он решительно заявляет: «я никогда не лгу!». Навязчивые идеи образуют великолепное прикрытие для замаскированного вероломства и побуждают глупцов-эмигрантов, лишенных всяких идей, думать, что он, человек с навязчивой идеей, является просто дураком, — а для такого бывалого молодца только этого и нужно. Дон-Кихот и Санчо Панса в одном лице, столь же влюбленный как в мешок с провизией, так и в свои навязчивые идеи, воодушевленный даровым содержанием странствующих рыцарей не менее, нежели их славой, герой карликовых войн и крохотных интриг, скрывающий свое плутовство под маской сильного характера, — таков Виллих, подлинная будущность которого находится в прериях Рио-Гранде-дель-Норте. В письме в редакцию нью-йоркской «Deutsche Schnellpost» г-н Гёгг следующим образом поясняет сложившиеся взаимоотношения между обоими вышеописанными элементами эмиграции: «Они» (южные германцы) «решили попытаться объединиться с остальными фракциями, чтобы восстановить престиж умирающего Центрального комитета. Однако мало надежды на осуществление этого благого намерения. Кинкель продолжает интриговать; вместе со своим избавителем, своим биографом и несколькими прусскими лейтенантами он образовал комитет, который должен действовать тайно, постепенно расширяться, привлекать к себе по возможности денежные средства демократии и затем внезапно выступить открыто уже в качестве могущественной партии Кинкеля. Это и нечестно, и несправедливо, и неразумно». «Честные» намерения южногерманских элементов при этих попытках объединения обнаруживаются в следующем письме г-на Зигеля, адресованном в ту же газету: «Если мы, немногие, имевшие чистосердечные намерения, также частично прибегли к конспирации, то сделали мы это только для того, чтобы оградить себя от жалких махинаций и домогательств Кинкеля и его присных и доказать им, что они рождены не для того, чтобы властвовать. Нашей главной целью было насильно заставить Кинкеля явиться на многолюдное собрание, где мы доказали бы ему и его, как он выражается, ближайшим политическим друзьям, что не все то золото, что блестит. К черту сначала инструмент» (Шурца), «к черту затем и музыканта» (Кинкеля) («Wochenblatt der New-Yorker Deutschen Zeitung», 24 сентября 1851 г.). Насколько своеобразен был состав обеих группировок, которые, бранясь, называли друг друга «южными германцами» и «северными германцами», можно судить уже по одному тому, что во главе южногерманских элементов находился «рассудок» Руге, а во главе северогерманских — «чувство» Кинкеля. Чтобы понять последовавшую затем великую борьбу, придется сказать несколько слов о дипломатии обеих потрясающих мир партий. Арнольд (а следовательно, и его приспешники) заботился прежде всего о том, чтобы образовать «закрытый клуб», официальной, показной целью которого была бы «революционная деятельность». Из этого клуба должен был выдвинуться его излюбленный «комитет по германским делам», а из этого комитета сам Руге должен был в свою очередь быть выдвинутым в Европейский центральный комитет. Арнольд неуклонно преследовал эту цель уже с лета 1850 года. Он надеялся «найти» в южных германцах «тот прекрасный средний элемент, среди которого он, не стесняясь, мог бы царить как властелин». Учреждение официальной эмигрантской организации, образование комитетов составляло, таким образом, необходимый элемент в политике Арнольда и его союзников. Со своей стороны, Кинкель и компания должны были стремиться не допустить ничего, что могло бы узаконить узурпированное Руге положение в Европейском центральном комитете. Кинкель в ответ на свое воззвание о предварительной подписке на 500 фунтов стерлингов получил из Нового Орлеана извещение о том, что ему высылаются деньги, и на этом основании уже успел образовать вместе с Виллихом, Шиммельпфеннигом, Рейхенбахом, Теховым, Шурцем и прочими тайную финансовую комиссию. Они рассуждали так: если у нас будут деньги, за нами будет и эмиграция; если за нами будет эмиграция, то правителями Германии будем также мы. Поэтому им прежде всего необходимо было занять эмигрантскую массу собраниями, посвященными чисто формальным вопросам, но всячески препятствовать учреждению официальной организации, выходящей за рамки просто «неоформленного общества», в особенности же не допустить образования какого-либо комитета, чтобы вставлять палки в колеса враждебной фракции, мешать ей действовать, а самим маневрировать за ее спиной. Общей чертой обеих фракций, т. е. «именитых деятелей», было стремление водить за нос эмигрантскую массу, не посвящая ее в свои конечные цели, пользоваться ею лишь как предлогом, а затем бросить ее, как только цель будет достигнута. Посмотрим же теперь, как эти Макиавелли, Талейраны и Меттернихи демократии нападают друг на друга. Явление первое. 14 июля 1851 года. — После того как «не удалось частное соглашение с Кинкелем о совместном выступлении», Руге, Гёгг, Зигель, Фиклер, Ронге приглашают именитых деятелей всех фракций на собрание у Фиклера 14 июля. Является 26 человек. Фиклер вносит предложение об образовании «закрытого кружка» немецких эмигрантов и о выделении из него «рабочего комитета для содействия целям революции». Предложение оспаривается главным образом Кинкелем и примерно шестью его приверженцами. После многочасовых бурных прений предложение Фиклера принимается (16 голосами против 40). Кинкель и меньшинство заявляют, что они не могут более принимать участия в этой затее, и покидают собрание. Явление второе. 20 июля. — Вышеуказанное большинство оформляется в особый союз. Среди вновь принятых — рекомендованный Фиклером Таузенау. Подобно тому как Ронге является Лютером немецкой демократии, а Кинкель ее Меланхтоном, г-н Таузенау состоит ее Абрагамом а Санта Клара. У Цицерона оба гаруспика не могут глядеть друг на друга без смеха[241]. — Г-н Таузенау не может взглянуть в зеркало на свою собственную серьезную мину, чтобы не расхохотаться. Если Руге удалось встретить в лице баденцев людей, которым он импонировал, то судьба ему отомстила, послав ему австрийца Таузенау, который ему импонировал. По предложению Гёгга и Таузенау заседание откладывается с тем, чтобы попытаться еще раз достигнуть соглашения с фракцией Кинкеля. Явление третье. 27 июля. — Заседание в Кранборн-отеле. «Именитая» эмиграция au grand complet. Фракция Кинкеля также явилась, однако, не для того, чтобы примкнуть к уже существующему союзу. Она, напротив, настаивает «на образовании «открытого дискуссионного клуба» без рабочего комитета и без каких-либо определенных целей». Шурц, выступающий во всей этой парламентской процедуре в роли наставника юного Кинкеля, вносит следующее предложение: «Настоящее общество объявляет себя закрытым политическим союзом под названием Немецкий эмигрантский клуб. Новые члены принимаются из среды немецкой эмиграции по предложению члена союза большинством голосов». Предложение принимается единогласно. Клуб постановил собираться каждую пятницу. «Принятие этого предложения было встречено общей овацией и приветственными возгласами: «Да здравствует германская республика!!!». Благодаря всеобщему стремлению к согласию каждый чувствовал, что он выполнил свой долг и сделал нечто полезное для революции» (Гёгг, «Wochenblatt der Schnellpost», 20 августа 1851 г.). Эдуард Мейен был в таком восторге от этого успеха, что восклицал в своих литографированных бюллетенях: «Теперь вся эмиграция образует единую сплоченную фалангу — вплоть до Бухера, за исключением лишь неисправимой марксовой клики». Эти мейеновские слова можно встретить также в берлинских литографированных правительственных бюллетенях{18}. Так при всеобщем проявлении взаимной уступчивости и под возгласы «ура» в честь германской республики возник великий Эмигрантский клуб, которому предстояло провести столь вдохновляющие заседания и, спустя несколько недель после отъезда Кинкеля в Америку, почить ко всеобщему удовольствию. Это, впрочем, не мешает ему и по сей день играть свою роль в Америке, фигурируя в качестве здравствующего учреждения. Явление четвертое. 1 августа. — Второе заседание в Кранборн-отеле. «К сожалению, мы уже ныне должны доложить, что мы ошибались, возлагая надежды на успех этого клуба» (Гёгг, там же, 27 августа). Кинкель без предварительного, принятого большинством постановления вводит в клуб шесть прусских эмигрантов и шесть прусских посетителей промышленной выставки. Дамм{19} (председательствующий, бывший председатель баденского Учредительного собрания) выражает свое удивление по поводу этого равносильного государственной измене нарушения устава. Кинкель заявляет: «Клуб — лишь открытое неоформленное общество, не преследующее никаких иных целей, кроме возможности лично знакомиться друг с другом и вести беседы, которые может слушать любой. Поэтому желательно, чтобы в обществе присутствовало как можно больше посторонних посетителей». Студент Шурц спешит загладить бестактность своего профессора, внеся поправку о допущении посетителей. Поправка принимается. Абрагам а Санта Клара, то бишь Таузенау, встает и без смеха вносит два следующих серьезных предложения: 1) «избрание комиссии» (пресловутый комитет), «которая каждую неделю представляла бы точные отчеты о текущей политике, в особенности германской; эти отчеты должны сдаваться в архив союза и в нужный момент публиковаться; 2) избрание комиссии» (пресловутый комитет) «для регистрации в архиве союза всевозможных подробностей относительно правонарушений и жестокостей, совершенных в течение истекших трех лет, а также тех, которые продолжают еще совершаться прислужниками реакции по отношению к сторонникам демократии». Против этого решительно восстают — Рейхенбах: «В невинных с виду предложениях я усматриваю подозрительные задние мысли и стремление путем избрания этих комиссий придать обществу нежелательный для него и его друзей официальный характер». Шиммельпфенниг и Шурц: «Подобные комиссии могут присвоить себе функции, носящие конспиративный характер, и мало-помалу привести к образованию официального комитета». Мейен: «Я желал бы слов, а не дел». Как утверждает Гёгг, большинство как будто склонялось принять предложения. Тогда Макиавелли-Щурц вносит предложение отложить решение вопроса. Абрагам а Санта Клара, то бишь Таузенау, по простодушию присоединяется к этому предложению. Кинкель полагает, что «голосование следует отложить до следующего заседания главным образом потому, что в этот вечер его фракция, по-видимому, находится в меньшинстве, и он и его друзья не могли бы считать голосование, которое состоялось бы при подобных условиях, «связывающим их совесть»». Вопрос переносится на следующее заседание. Явление пятое. 8 августа. — Третье заседание в Кранборн-отеле. Прения по поводу предложений Таузенау. Кинкель и Виллих, вопреки уговору, привели с собой «эмигрантские низы, le menu peuple, чтобы на этот раз связать свою совесть». Шурц вносит поправку о добровольных докладах по вопросам текущей политики, и такие доклады, предварительно сговорившись, тут же вызываются прочесть: Мейен— о Пруссии, Шурц— о Франции, Оппенхейм — об Англии, Кинкель — об Америке и будущем (ибо ближайшее будущее его было в Америке). Предложения Таузенау отклоняются. Он трогательно заявляет, что желает пожертвовать своим справедливым гневом, принеся его на алтарь отечества, и остаться в кругу союзников. Однако фракция Руге — Фиклера тотчас же раздраженно становится в позу обманутого прекраснодушия. Интермеццо. — Кинкель получил, наконец, из Нового Орлеана 160 фунтов стерлингов, которые он при участии других именитых особ должен был в интересах революции превратить в капитал, приносящий прибыль. Фракция Руге — Фиклера, и без того уязвленная результатами последнего голосования, узнала об этом. Нельзя было больше терять ни минуты — нужно было действовать. Так образовалось новое эмигрантское болото, украсившее свое застойное и гнилое существование именем «Агитационного союза». Членами его были Таузенау, Франк, Гёгг, Зигель, Хертле, Ронге, Хауг, Фиклер, Руге. Союз немедленно заявил в английских газетах, что «он создан не для дискуссий, а преимущественно для действий, заниматься он будет не words {словами. Ред.}, a works {делами. Ред.} и прежде всего предлагает единомышленникам вносить денежные средства. Агитационный союз вверяет исполнительную власть Таузенау, а равно назначает его своим уполномоченным и корреспондентом по внешним делам; вместе с тем он признает и положение, занимаемое Руге в Европейском центральном комитете» (в качестве имперского регента), «признает и его прежнюю деятельность и то, что он представляет немецкий народ в истинно германском духе». В этой новой комбинации ясно проглядывает первоначальная группировка: Руге — Ронге — Хауг. Таким образом, Арнольд, после многолетней борьбы и усилий, добился, наконец, того, чего хотел: он был признан пятой спицей в центральной демократической колеснице и имел позади себя «ясно», к сожалению, даже слишком ясно, «очерченную часть народа», состоявшую из целых восьми человек. Но и это удовольствие было для него отравлено, так как его признание было одновременно связано с его косвенным смещением с поста и он был признан лишь на выдвинутом мужланом Фиклером условии, по которому Руге должен был отныне перестать «писать и распространять по свету свою чепуху». Грубиян Фиклер только те писания Арнольда считал «заслуживающими внимания», которых он сам не читал и которые ему не к чему было читать. Явление шестое. 22 августа. — Кранборн-отель. Сперва «дипломатический шедевр» (см. Гёгг) Шурца: предложение образовать общеэмигрантский комитет из шести человек, принадлежащих к различным фракциям, присоединив к нему пять членов существующего уже Эмигрантского комитета виллиховского союза ремесленников (при этом условии фракция Кинкеля — Виллиха всегда была бы в большинстве). Предложение принимается. Выборы состоялись, но члены той части «государства», которая подвластна Руге, отказались принять в них участие, благодаря чему дипломатический шедевр проваливается. Насколько серьезно было задумано дело с этим Эмигрантским комитетом, видно, впрочем, из того, что четыре дня спустя Виллих вышел из давно существовавшего лишь номинально Эмигрантского комитета ремесленников, после того как многократные мятежи проявивших крайнюю непочтительность «эмигрантских низов» уже за много дней сделали неизбежным роспуск этого комитета. — Делается запрос по поводу публичных выступлений Агитационного союза. Вносится предложение, чтобы Эмигрантский клуб не имел ничего общего с Агитационным союзом и публично дезавуировал бы все его действия. Бешеные выпады по адресу присутствующих «агитаторов» — Гёгга и Зигеля младшего (т. е. старшего, см. ниже {См. настоящий том, стр. 349. Ред.}). Рудольф Шрамм объявляет своего старого друга Руге прислужником Мадзини и «старой грязной сплетницей». И ты, Брут! Гёгг возражает не как великий оратор, а как честный гражданин, и ожесточенно нападает на двуличного, безвольно-коварного, поповски-елейного Кинкеля: «Непростительно лишать возможности работать тех, кто желает работать! Но эти люди, очевидно, хотят объединения лишь кажущегося, бездеятельного, чтобы под таким прикрытием эта клика могла бы добиваться известных целей». Когда Гёгг коснулся публичного заявления Агитационного союза в английских газетах, Кинкель величественно поднялся и изрек, что он «уже господствует во всей американской прессе и приняты меры к тому, чтобы подчинить его влиянию также и французскую прессу». Предложение истинно германской фракции было принято и повело к заявлению «агитаторов» о том, что члены их союза не могут больше оставаться в Эмигрантском клубе. Так возник ужасный раскол между Эмигрантским клубом и Агитационным союзом, образовавший зияющую брешь во всей современной мировой истории. Любопытнее всего, что оба эти порождения эмиграции действительно существовали лишь до происшедшего между ними раскола, а ныне же они существуют лишь как бы в каульбаховской битве языческих духов[242] и эта битва по сей день продолжается в немецко-американских газетах и на собраниях и будет, по-видимому, продолжаться до скончания века. Еще более бурный характер всему заседанию придало то, что не признающий никакой дисциплины Шрамм напал также и на Виллиха, утверждая, что Эмигрантский клуб осрамился, связавшись с этим рыцарем. Председательствующий — на сей раз это был робкий Мейен, — отчаявшись, уже несколько раз выпускал из рук кормило правления. Однако сумятица достигла крайних пределов во время прений по поводу Агитационного союза и в связи с выходом его членов. Сопровождаемое криками, треском, гвалтом, угрозами, неистовым ревом длилось это назидательное заседание часов до двух ночи, пока, наконец, хозяин, погасив газовые рожки, не погрузил возбужденных противников в глубокую тьму и, нагнав на них страху, не покончил с делом спасения отечества. В конце августа рыцарственный Виллих и сентиментальный Кинкель попытались взорвать Агитационный союз изнутри, обратившись к честному Фиклеру со следующим предложением: «Он, Фиклер, должен образовать вместе с ними и их ближайшими политическими друзьями финансовую комиссию, которая возьмет в свои руки распоряжение прибывшими из Нового Орлеана деньгами. Эта комиссия будет существовать до тех пор, пока не сможет собраться официальная финансовая комиссия самой революции; при этом, однако, принятие этого предложения уже означает согласие на роспуск всех существовавших до того времени немецких революционных и агитационных обществ». Добродетельный Фиклер пришел в негодование от этой «октроированной, тайной, безответственной комиссии»; «Как может», — воскликнул он, — «простая финансовая комиссия сплотить вокруг себя все революционные партии? Ни поступающие, ни уже поступившие деньги не могут сами по себе послужить тем основанием, ради которого расходящиеся направления в демократии пожертвуют своей самостоятельностью». Таким образом, вместо того чтобы вызвать желанный роспуск, эта попытка склонить к дезертирству произвела обратное действие, и Таузенау мог заявить, что разрыв между обеими могущественными партиями — «Эмиграцией» и «Агитацией» — стал непоправимым. XIV Чтобы показать, в какой милой манере велась война между «Агитацией» и «Эмиграцией», приведем несколько выдержек из немецко-американских газет. «АГИТАЦИЯ»Руге объявляет Кинкеля «агентом принца Прусского». Другой «агитатор» делает открытие, будто выдающимися членами Эмигрантского клуба являются, «кроме пастора Кинкеля, еще три прусских лейтенанта, два бездарных литератора из Берлина и один студент». Зигель пишет: «Нельзя отрицать, что Виллих приобрел нескольких приверженцев. Конечно, если в течение трех лет проповедовать и говорить людям лишь то, что им приятно, то нужно быть уж очень глупым, чтобы не превратить этих людей в своих приверженцев. Шайка Кинкеля старается перетянуть на свою сторону этих приверженцев Виллиха. Приверженцы Виллиха заводят шашни с приверженцами Кинкеля». Четвертый «агитатор» объявляет последователей Кинкеля «идолопоклонниками». Таузенау следующим образом характеризует Эмигрантский клуб: «Отстаивание сепаратных интересов под личиной миролюбия, систематический обман ради получения большинства, выступление неизвестных величин в качестве вождей и организаторов партии, попытки октроировать тайную финансовую комиссию и всякие закулисные махинации, как бы они там ни назывались, посредством которых незрелые политики. всегда» думали распоряжаться в изгнании судьбами родины, между тем как при первых же вспышках революции подобные тщеславные планы рассеиваются как дым». Наконец, Родомонт-Гейнцен заявляет, что Руге, Гёгг, Фиклер и Зигель — единственные порядочные эмигранты в Англии, с которыми он лично знаком. Члены Эмигрантского клуба — «эгоисты, роялисты и коммунисты»; Кинкель — «неизлечимо тщеславный болван и философствующий аристократ»; Мейен, Оппенхейм, Виллих и пр. — людишки, которых он, Гейнцен, «может обозреть, лишь согнувшись до коленной чашечки, и которые не доросли даже до щиколотки Руге» (нью-йоркская «Schnellpost», «New-Yorker Deutsche Zeitung», «Wecker» и т. д., 1851). «ЭМИГРАЦИЯ»«Зачем нужен октроированный комитет, висящий в воздухе, сам себя уполномочивший еще до того, как он приступил к работе, никем не избранный, не спросивший тех, кого он претендует представлять, желают ли они, чтобы их представляли данные лица?» — «Тем, кто знает Руге, известно, что мания выпускать прокламации его неизлечимая болезнь». — «В парламенте Руге не мог добиться даже такого влияния, каким пользовались какой-нибудь Раво или Симон из Трира». — «Там, где требуется революционная энергия в действии, организационная работа, сдержанность или молчаливость, — там Руге опасен, ибо он страдает как недержанием речи, так и недержанием чернил и непрестанно жаждет представлять весь мир. Руге связался с Мадзини и Ледрю-Ролленом, что означает переведенное на его, Руге, язык сообщение во все газеты: «Германия, Франция и Италия заключили братский революционный союз»». — «Это претенциозное октроирование комитета, эта хвастливая бездеятельность побудили ближайших и разумнейших друзей Руге, как Оппенхейм, Мейен, Шрамм, установить связь с другими людьми для совместной деятельности». — «Позади Руге стоит не ясно очерченная часть народа, а ясно очерченный мирный педант». «Сколько сотен людей спрашивают каждый день, кто же такой этот Таузенау? И никто, никто не может дать на это ответа. Время от времени кто-либо из венцев уверяет, что он один из тех венских демократов, которые постоянно упрекали венскую демократию в реакционности, чтобы выставить ее в невыгодном свете. Однако это утверждение остается на совести венцев. Во всяком случае, он — величина неизвестная; и еще менее известно, величина ли он вообще». «Посмотрим еще раз, кто же эти достойные люди, которым все остальные представляются незрелыми политиками. Вот главнокомандующий Зигель. Если бы спросить музу истории, каким образом это бесцветное ничтожество добралось до верховного командования, она пришла бы в величайшее замешательство. Зигель только брат своего брата. Брат его стал популярным офицером благодаря своим резким антиправительственным высказываниям, кои были вызваны частыми арестами, которым он подвергался за самый обыкновенный разврат. Молодой Зигель счел это достаточным основанием для того, чтобы в период первого замешательства, наступившего с революционным подъемом, провозгласить себя главнокомандующим и военным министром. В баденской артиллерии, неоднократно доказывавшей свои превосходные качества, было достаточно более зрелых и достойных офицеров, перед которыми молодой неоперившийся лейтенант Зигель должен был стушеваться и которые были немало возмущены, когда им пришлось подчиниться неизвестному, столь же неопытному, сколь и бездарному юнцу. Но здесь ведь оказался Брентано, достаточно слабый разумом и предательски настроенный, чтобы идти на все, что должно было погубить революцию… Полнейшая неспособность, которую Зигель проявил во время всей баденской кампании… Достопримечательно, во всяком случае, то, что под Раштаттом и в Шварцвальде Зигель бросил на произвол судьбы храбрейших солдат республиканской армии, не прислав им обещанного подкрепления, между тем как сам он разъезжал по Цюриху в эполетах князя Фюрстенберга и в его кабриолете, щеголяя в роли вызывающего интерес неудачливого полководца. Таково известное всем величие этого зрелого политика, который в законном сознании своих былых геройских подвигов во второй раз сам себя назначил главнокомандующим в Агитационном союзе. Таков наш великий знакомый, брат своего брата». «Право же смешно, когда такие люди» (как члены Агитационного союза) «упрекают в половинчатости других, между тем как сами они — политические нули, которые вообще не являются чем-нибудь ни целиком, ни наполовину». — «Личное честолюбие — вот что скрывается за их принципиальной основой». — «Агитационный союз имеет, как союз, лишь частное значение, как какой-нибудь узкий литературный кружок или биллиардный клуб, и у него нет поэтому никаких оснований требовать; чтобы его признавали, и нет никакого права выдавать мандаты». — «Вы сами бросили жребий! Непосвященные должны быть посвящены, дабы они сами могли судить о том, что вы собой представляете!» (Балтиморский «Conespondent»). Следует признать, что эти господа, взаимно познавая друг друга, почти дошли до самосознания. XV Тем временем тайная финансовая комиссия «Эмиграции» избрала правление, состоящее из Кинкеля, Виллиха и Рейхенбаха, и постановила серьезно заняться немецким займом. Студент Шурц — как сообщали в конце 1851 г. нью-йоркская «Schnellpost», «New-Yorker Deutsche Zeitung» и балтиморский «Correspondent» — был послан во Францию, Бельгию и Швейцарию и стал разыскивать там всех старых, забытых и пропавших без вести парламентариев, имперских регентов, депутатов палат и прочих именитых мужей, вплоть до покойного Раво, чтобы добиться от них гарантирования займа. Эти преданные забвению неудачники поторопились гарантировать предприятие. Ведь гарантирование займа являлось, если оно вообще что-нибудь значило, как бы взаимной гарантией правительственных постов in partibus, и гг. Кинкель, Виллих и Рейхенбах получали таким путем гарантию для своих видов на будущее. И почтенные добродетельные мужи, безутешно прозябавшие в Швейцарии, до такой степени помешались на «организации» и гарантировании постов, что заранее установили будущий порядок замещения правительственных должностей по старшинству, распределив между собой номера постов, причем не обходилось без резких сцен, когда решалось, кому достанутся посты № 1, № 2 и № 3. Словом, студент Шурц вернулся с гарантией в кармане, и компания принялась за дело. Правда, за несколько дней до того Кинкель на новом совещании с «Агитацией» обещал не предпринимать односторонних займов от имени «Эмиграции»; но именно поэтому он и уехал с гарантийными подписями и с полномочиями Рейхенбаха — Виллиха, якобы для того, чтобы читать на севере Англии свои лекции по эстетике, в действительности же, чтобы из Ливерпуля отплыть в Нью-Йорк и подобно Парцифалю[243] отыскать в Америке святой Граль, т. е. золотые сокровища демократической партии. Тут начинается сладкозвучная, чудесная, велеречивая, неслыханная, подлинная и полная приключений повесть о великих битвах, которые «Эмиграция» и «Агитация» с новым ожесточением и непоколебимым постоянством вели по обе стороны океана, — повесть о крестовом походе Готфрида, в котором он соперничал с Кошутом, повесть о том, как он, после тяжких трудов и невыразимых искушений, в конце концов возвратился под родную кровлю со святым Гралем в дорожной сумке. Or, bei signori, io vi lascio al presente, (Bojardo, canto 26 {Боярдо, песнь 26. Ред.}.) Теперь же, господа, я вас покину; Примечания:1 В работе «Революция и контрреволюция в Германии» изложены взгляды основоположников марксизма по важнейшим вопросам германской революции 1848–1849 годов. Непосредственным поводом к написанию этой работы послужило предложение о сотрудничестве, сделанное Марксу в начале августа 1851 г. одним из редакторов прогрессивной буржуазной газеты «New-York Daily Tribune» («Нью-йоркская ежедневная трибуна») Чарлзом Дана. Маркс, занятый экономическими исследованиями, обратился к Энгельсу с просьбой написать ряд статей о германской революции. В работе над статьями Энгельс в качестве источника использовал главным образом комплект «Neue Rheinische Zeitung» («Новой Рейнской газеты»), не считая некоторых дополнительных материалов, переданных ему Марксом, с которым Энгельс постоянно обменивался мнениями. Маркс также просматривал статьи перед отправкой их в газету. Серия статей «Революция и контрреволюция в Германии» печаталась в «New-York Daily Tribune» с 25 октября 1851 по 23 октября 1852 г. за подписью Маркса; только в 1913 г. в связи с опубликованием переписки между Марксом и Энгельсом стало известно, что эта работа написана Энгельсом. При жизни Маркса и Энгельса «Революция и контрреволюция в Германии» не переиздавалась. Первое издание этого произведения в виде отдельной книги на английском языке было предпринято в 1896 г. дочерью Маркса Элеонорой Маркс-Эвелинг; в том же году был издан немецкий перевод книги; в 1900 г. вышло в свет французское издание книги в переводе дочери Маркса Лауры Лафарг. В 1899 г. в Берлине был издан русский перевод трех первых глав книги, первое полное издание книги на русском языке вышло в переводе с английского в Лондоне в 1900 г., ряд новых изданий книги появился в России в годы первой русской революции, впоследствии книга неоднократно переиздавалась на русском языке Институтом марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. В «New-York Daily Tribune» статьи данной серии печатались без подзаголовков; в английском издании 1896 г. Элеонора Маркс-Эвелинг снабдила их подзаголовками, которые сохранены и в настоящем издании. 2 «Tribune» — сокращенное название американской газеты «New-York Daily Tribune» («Нью-йоркская ежедневная трибуна»), выходившей с 1841 по 1924 год. Основанная видным американским журналистом и политическим деятелем Хорасом Грили, газета до середины 50-х годов была органом левого крыла американских вигов, а затем органом республиканской партии. В 40—50-х годах газета стояла на прогрессивных позициях и выступала против рабовладения. В газете принимал участие ряд крупных американских писателей и журналистов, одним из ее редакторов с конца 40-х годов был Чарлз Дана, находившийся под влиянием идей утопического социализма. Сотрудничество Маркса в газете началось в августе 1851 г. и продолжалось свыше 10 лет, по март 1862 года; большое число статей для «New-York Daily Tribune» было по просьбе Маркса написано Энгельсом. Статьи Маркса и Энгельса в «New-York Daily Tribune» охватывали важнейшие вопросы международной и внутренней политики, рабочего движения, экономического развития европейских стран, колониальной экспансии, национально-освободительного движения в угнетенных и зависимых странах и др. В период наступившей в Европе реакции Маркс и Энгельс использовали широко распространенную прогрессивную американскую газету для обличения на конкретных материалах пороков капиталистического общества, свойственных ему непримиримых противоречий, а также показа ограниченного характера буржуазной демократии. Редакция «New-York Daily Tribune» в ряде случаев допускала вольное обращение со статьями Маркса и Энгельса, печатая некоторые статьи без подписи автора в виде редакционных передовых, в некоторых случаях редакция допускала вторжение в текст статей. Эти действия редакции вызывали неоднократные протесты Маркса. С осени 1857 г. в связи с экономическим кризисом в США, отразившимся также на финансовом положении газеты, Маркс был вынужден сократить число своих корреспонденций в «New-York Daily Tribune». Окончательно прекратилось сотрудничество Маркса в газете в начале Гражданской войны в США; значительную роль в разрыве «New-York Daily Tribune» с Марксом сыграло усиление в редакции сторонников компромисса с рабовладельческими штатами и отход газеты от прогрессивных позиций. 11 G. W. F. Hegel. «Grundlinien der Philosophie des Rechts». Berlin, 1821 (Г. В. Ф. Гегель. «Основы философии права». Берлин, 1821). 12 «Berliner politisches Wochenblatt» («Берлинский политический еженедельник») — крайне реакционный орган, издавался с 1831 по 1841 г. при участии ряда представителей исторической школы права; пользовался поддержкой и покровительством кронпринца Фридриха-Вильгельма (с 1840 г. — король Фридрих-Вильгельм IV). Историческая школа права — реакционное направление в исторической и юридической науке, возникшее в Германии в конце XVIII века. Школа в лице своих видных представителей (Гуго, Савиньи и др.) выступала против буржуазно-демократических идей французской буржуазной революции. Характеристику этого направления см. в статьях К. Маркса «Философский манифест исторической школы права» и «К критике гегелевской философии права. Введение» (настоящее издание, том 1, стр. 85–92 и 416). Легитимисты — сторонники свергнутой во Франции в 1792 г. династии Бурбонов, представлявшей интересы крупного наследственного землевладения. В 1830 г., после вторичного свержения этой династии, легитимисты объединились в политическую партию. 13 «Rheinische Zeitung fur Politik, Handel und Gewerbe» («Рейнская газета по вопросам политики, торговли и промышленности») — ежедневная газета, выходила в Кёльне с 1 января 1842 по 31 марта 1843 года. Газета была основана представителями рейнской буржуазии, оппозиционно настроенной по отношению к прусскому абсолютизму. К сотрудничеству в газете были привлечены и некоторые младогегельянцы. С апреля 1842 г. К. Маркс стал сотрудником «Rheinische Zeitung», а с октября того же года — одним из ее редакторов. В «Rheinische Zeitung» был опубликован также ряд статей Ф. Энгельса. При редакторстве Маркса газета стала принимать все более определенный революционно-демократический характер. Правительство ввело для «Rheinische Zeitung» особо строгую цензуру, а затем закрыло ее. 14 Seehandlung (Морская торговля) — торгово-кредитное общество, основанное в 1772 г. в Пруссии; это общество, пользовавшееся рядом важных государственных привилегий, предоставляло крупные ссуды правительству, фактически выполняя роль его банкира. В 1904 г. было официально превращено в прусский государственный банк. 15 Имеется в виду немецкий, или «истинный», социализм — реакционное направление, получившее распространение в Германии в 40-х годах XIX века преимущественно среди мелкобуржуазной интеллигенции. Представители «истинного социализма» — К. Грюн, М. Гесс, Г. Криге и др. — подменяли идеи социализма сентиментальной проповедью любви и братства и отрицали необходимость буржуазно-демократической революции в Германии. Критика этого направления дана К. Марксом и Ф. Энгельсом в произведениях: «Немецкая идеология», «Циркуляр против Криге», «Немецкий социализм в стихах и прозе», «Манифест Коммунистической партии» (см. настоящее издание, том 3, стр. 455–544, том 4, стр. 1—16, 208–248, 451–453). 16 «Немецкий католицизм» — религиозное движение, возникшее в 1844 г. в ряде германских государств и охватившее значительные слои средней и мелкой буржуазии. Движение выступало против крайних проявлений мистицизма и ханжества в католической церкви. Отвергая главенство римского папы и многие догматы и обряды католической церкви, «немецкие католики» стремились приспособить католицизм к нуждам немецкой буржуазии. «Свободные общины» — общины, выделившиеся из официальной протестантской церкви в 1846 г. под влиянием движения «Друзей света» — религиозного течения, направленного против господствовавшего в протестантской церкви пиетизма, который отличался крайним мистицизмом и ханжеством. Эта религиозная оппозиция была одной из форм проявления недовольства немецкой буржуазии 40-х годов XIX в. реакционными порядками в Германии. В 1859 г. произошло слияние «Свободных общин» с общинами «немецких католиков». 17 Унитарии, или антитринитарии, — представители религиозного течения, оспаривающего догмат о «триединстве божьем». Движение унитариев, возникшее в XVI в. в период Реформации, являлось отражением борьбы народных масс и радикальной части буржуазии против феодального строя и феодальной церкви. В Англию и Америку унитаризм проник с XVII века. Доктрина унитаризма в XIX в. выдвигала на первый план морально-этические моменты в религии, выступая против внешней, обрядовой ее стороны. 18 Победы Наполеона в Германии привели к развалу так называемой Священной Римской империи германской нации. В августе 1806 г. австрийский император Франц I отказался от титула императора Священной Римской империи. Основанная в Х в. Империя не была централизованным государством и представляла собой объединение феодальных княжеств и вольных городов, признававших верховную власть императора. 19 Лозунг единой и неделимой германской республики был выдвинут еще накануне революции Марксом и Энгельсом (см. настоящее издание» том 4, стр. 316). Этот же лозунг был выдвинут в качестве первого пункта в «Требованиях Коммунистической партии в Германии» (см. настоящее издание, том 5, стр. 1) — политической программе Союза коммунистов в германской революции, сформулированной Марксом и Энгельсом в марте 1848 года. 20 Речь идет о так называемой первой опиумной войне (1839–1842) — захватнической войне Англии против Китая, положившей начало превращению Китая в полуколониальную страну. Одна из статей Нанкинского мирного договора, навязанного Китаю в результате войны, предусматривала открытие пяти китайских портов для иностранной торговли, что способствовало проникновению иностранцев в Китай. 21 В феврале — марте 1846 г., одновременно с национально-освободительным восстанием в Кракове, вспыхнуло крупное крестьянское восстание в Галиции. Используя классовые противоречия, австрийские власти сумели вызвать столкновения между восставшими галицийскими крестьянами и польской шляхтой, пытавшейся выступить на поддержку Кракова. Крестьянское восстание, начавшись с разоружения шляхетских повстанческих отрядов, приняло характер массового разгрома помещичьих усадеб. Справившись с повстанческим движением шляхты, австрийское правительство подавило также и крестьянское восстание в Галиции. 22 Имеется в виду национально-освободительная война итальянского народа против австрийского владычества в 1848–1849 годах. Война началась в марте 1848 г. после победоносного народного восстания в подвластной Австрии Ломбардии и Венецианской области. Под давлением народных масс в войну против Австрии вступили также итальянские монархические государства во главе с Пьемонтом. Предательское поведение итальянских господствующих классов, боявшихся объединения Италии революционным путем, привело к поражению в борьбе с Австрией. 23 Из поэмы Гейне «Германия. Зимняя сказка», глава VII. 24 Речь идет о перемирии в шлезвиг-гольштейнской войне, заключенном 26 августа 1848 г. между Данией и Пруссией. Война против Дании, начавшаяся с восстания в Шлезвиг-Гольштейне, являлась частью революционной борьбы немецкого народа за объединение Германии. Правительства германских государств, в том числе Пруссии, под давлением народных масс вынуждены были принять участие в войне. Однако правящие круги Пруссии на деле саботировали военные действия и в августе 1848 г. заключили позорное перемирие в Мальмё. Ратификация этого перемирия в сентябре 1848 г. франкфуртским Национальным собранием вызвала волну протестов и привела к народному восстанию во Франкфурте. Весной 1849 г. военные действия в Шлезвиг-Гольштейне возобновились, но в июле 1850 г. Пруссия заключила мирный договор с Данией, что позволило последней разгромить повстанцев. 119 Работа «Великие мужи эмиграции» представляет собой памфлет, направленный против мелкобуржуазных деятелей революции 1848–1849 гг., которые после поражения революции выступали с нападками на пролетарских революционеров. Целью Маркса и Энгельса было дать должный отпор этим нападкам и разоблачить вредную деятельность мелкобуржуазной эмиграции, занимавшейся игрой в революционные заговоры. Работа была написана в мае — июне 1852 г., частично в Лондоне, а частично у Энгельса в Манчестере, куда Маркс прибыл в конце мая. В работе был использован собранный предварительно с помощью друзей обильный фактический материал: различные эмигрантские издания (документы, газеты, мемуары), немецкая, французская и английская пресса и т. д. В подборе материалов и оформлении рукописи помимо жены Маркса принимал участие также член Союза коммунистов Эрнст Дронке. Уже в начале июля рукопись была вручена для напечатания в Германии предложившему свои услуги венгерскому эмигранту Бандье, который, как это выяснилось впоследствии, был полицейским агентом. Последний продал памфлет прусской полиции. Действия Бандьи, которому удалось на некоторое время ввести в заблуждение Маркса, были вскоре публично разоблачены последним в статье «Добровольные признания Гирша», написанной в апреле 1853 г. и опубликованной в американской газете «Belletristisches Journal und New-Yorker Criminal-Zeitung» («Беллетристический журнал и нью-йоркская газета по вопросам криминалистики»). При жизни авторов памфлет остался неопубликованным. Сохранившийся у Маркса и Энгельса экземпляр рукописи (первые страницы рукописи написаны рукой Дронке, вся остальная рукопись написана рукой Энгельса с добавлениями Маркса) впоследствии оказался в руках Э. Бернштейна, который не только не предпринял мер к его опубликованию, но при издании переписки Маркса и Энгельса в 1913 г. тщательно вытравил все места, касающиеся переговоров Маркса с Бандьей относительно памфлета «Великие мужи эмиграции». Только в 1924 г. рукопись была получена от Бернштейна архивом германской социал-демократической партии, где хранилось литературное наследие Маркса и Энгельса. В 1930 г. работа была впервые опубликована в «Архиве К. Маркса и Ф. Энгельса» на русском языке Институтом марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. В отличие от предыдущего издания текст работы дается с учетом редакционных поправок Маркса и Энгельса, вычеркнутые в рукописи места не воспроизводятся. 121 «Gottfried Kinkel. Wahrheit ohne Dichtung». Biographisches Skizzenbuch von Adolf Strodtmann. Bd. I–II, Hamburg, Hoffmann und Campe, 1850–1851. 122 Имеется в виду сентиментальное направление в немецкой литературе, типичным образцом которого был популярный в конце XVIII в. роман Миллера «Зигварт. Монастырская история», вышедший в 1776 году. 123 Гёте. «Фауст», часть I, сцена четвертая («Кабинет Фауста»). 124 Гёте. «Фауст», часть I, сцена четвертая («Кабинет Фауста»). 125 Нарцисс — в древнегреческой мифологии прекрасный юноша, влюбленный в собственное отражение; в переносном смысле самовлюблённый человек. 126 Вагнер — персонаж из «Фауста» Гёте, ученик Фауста; тип лжеученого, схоласта. 127 Имеются в виду литературные журналы: «Deutscher Musenalmanach» («Немецкий альманах муз»), издававшийся в Лейпциге А. Шамиссо и Г. Швабом в 1832–1838 гг., и «Der Christoterpe» («Утеха христианина»), издававшийся в Тюбингене А. Кнаппом в 1833–1853 годах. 128 Махадева — «великий бог», прозвище Шивы, одного из главных индийских богов. Индийские девушки сами изготовляли изображения Шивы, которые служили им предметом поклонения. 129 «Генрих фон Офтердинген» — неоконченный роман немецкого писателя Новалиса, одно из типичных произведений немецкого реакционного романтизма. Герой романа — Генрих фон Офтердинген — поэт, посвятивший свою жизнь поискам «голубого цветка», символа идеальной поэзии. 130 Гёте. «Кроткие ксении». 131 Имеется в виду эпизод из повести Гофмана «Мейстер Иоганнес Вахт». Герой повести плотник Иоганнес Вахт, охваченный горем по поводу недавней гибели жены и сына, находит утешение в творчестве и создает проект оригинального сооружения. 132 «Человеконенавистничество и раскаяние» — название драмы немецкого реакционного писателя А. Коцебу. 133 G. W. F. Hegel. «Phдnomenologie des Geistes». Bamberg und Wurzburg, 1807 (Г. В. Ф. Гегель. «Феноменология духа». Бамберг и Вюрцбург, 1807). 134 Имеется в виду герой автобиографического романа писателя Юнг-Штиллинга «Юношеские годы Генриха Штиллинга» (1778), представляющего собой образец ханжеской пиетистской литературы. 135 «Союз рощи» — кружок молодых поэтов (И. Фосс, Г. Бюргер, Л. Гёльти и др.), образовавшийся в Гёттингенском университете в 1772 году. Идейным вдохновителем кружка был Клопшток. Кружок примыкал к направлению, которое вскоре получило название «Бури и натиска» («Sturm und Drang») и выражало недовольство немецкого бюргерства существовавшими в Германии порядками. Для представителей гёттингенского кружка характерна лирика, в которой мотивы протеста переплетаются с сентиментальным воспеванием простого образа жизни немецких бюргеров и их мещанских добродетелей. 136 Лорелея — героиня народной легенды, широко использованной немецкими поэтами; символ губительной, равнодушной красоты. Лучшее художественное воплощение этого образа дано в стихотворении Г. Гейне того же названия. 137 Goethe. «Die Wahlverwandtschaften». 138 D. F. Straus. «Das Leben Jesu». Bd. 1–2, Tubingen, 1835–1836 (Д. Ф. Штраус. «Жизнь Иисуса». Тт. 1–2, Тюбинген, 1835–1836). 139 G. Kinkel. «Handwerk, errette Dich! oder Was soll der deutsche Handwerker fordern und thun, um seinen Stand zu bessern?» Bonn, 1848 (Г. Кинкель. «Спасайся, ремесло! или Что немецкие ремесленники должны требовать и делать, чтобы улучшить положение своего сословия?» Бонн, 1848). 140 «Винкельблехиадами» (по имени немецкого экономиста К. Г. Винкельблеха, выступавшего с реакционной теорией восстановления цехового строя) здесь иронически называются собиравшиеся в ряде немецких городов в 1848 г. съезды ремесленников, на которых выдвигались реакционно-утопические программы восстановления цехов. 15 июля 1848 г. во Франкфурте-на-Майне собрался общегерманский конгресс ремесленников для выработки общей программы. Вследствие нежелания мастеров допустить подмастерьев к участию в конгрессе на равных основаниях, последние организовали собственный конгресс и привлекли к участию в нем рабочих из различных городов Южной Германии. Программа этого конгресса была, однако, также составлена в духе реакционного учения Винкельблеха, принимавшего личное участие в обоих конгрессах. 141 Вторая палата прусского парламента была созвана 5 февраля 1849 г. на основе конституции, октроированной (дарованной) Фридрихом-Вильгельмом IV 5 декабря 1848 г. в результате контрреволюционного переворота в Пруссии. Несмотря на то, что выборы в палату происходили на основе крайне урезанного избирательного закона, в палате образовалось сильное оппозиционное левое крыло. Уже 28 апреля вторая палата была распущена правительством. 142 Пфальц не имеет морских границ. 143 При Раштатте 29–30 июня 1849 г. состоялось последнее сражение революционной баденской армии с прусскими войсками. Остатки баденской армии, осажденные в крепости Раштатт, капитулировали 23 июля. 144 Речь Кинкеля, произнесенная им 4 апреля 1849 г. перед военным судом в Раштатте, была помещена в берлинской буржуазно-демократической газете «Abend-Post» («Вечерняя почта») 6–7 апреля 1850 года. Маркс и Энгельс подвергли резкой критике эту речь Кинкеля в «Neue Rheinische Zeitung. Politisch-okonomiscne Revue» («Новая Рейнская газета. Политико-экономическое обозрение») (см. настоящее издание, том 7, стр. 315–317). 145 Goethe. «Leiden des jungen Werthers». 146 Имеется в виду освобождение из плена английского короля Ричарда Львиное сердце, попавшего в плен к австрийскому герцогу Леопольду I при возвращении из третьего крестового похода (1190–1192). Легенда связывает освобождение короля с именем французского трубадура Блонделя, бывшего, по преданию, придворным поэтом Ричарда Львиное сердце. 147 «Household Words» («Знакомые слова») — еженедельный английский литературный журнал; в 1850–1859 гг. издавался в Лондоне Чарлзом Диккенсом. «Illustrated News» — сокращенное название английского еженедельного иллюстрированного журнала «Illustrated London News» («Иллюстрированные лондонские новости»), выходит с 1842 года. 148 Хрустальный дворец — здание, сооруженное из металла и стекла для первой всемирной торгово-промышленной выставки в Лондоне в 1851 году. 149 «Der Kosmos» («Космос») — еженедельный орган немецких мелкобуржуазных демократов-эмигрантов в Англии; издавался в 1851 г. в Лондоне Эрнстом Хаугом; в еженедельнике принимали участие Кинкель, Руге, Ронге, Оппенхейм, Таузенау. Вышло всего 6 номеров. 150 В мае 1852 г. во Франции, в соответствии с конституцией, должны были состояться перевыборы президента республики. В кругах мелкобуржуазной демократии, в частности в эмигрантских кругах, с этой датой связывали надежды на приход демократических партий к власти. 151 Имеется в виду кампания в защиту имперской конституции, которая была принята франкфуртским Национальным собранием 28 марта 1849 года. Конституция была отвергнута большинством немецких правительств. В мае — июне вспыхнули восстания в Бадене и Пфальце с целью поддержки конституции. Однако франкфуртское Национальное собрание не оказало восставшим никакой поддержки. Характеристика кампании за имперскую конституцию дана в работах Энгельса «Германская кампания за имперскую конституцию» (см. настоящее издание, том 7, стр. 111–207) и «Революция и контрреволюция в Германии» (см. настоящий том, стр. 89—102). 152 Попытки создать Центральное бюро всей немецкой эмиграции были направлены против руководимого в этот период Марксом и Энгельсом Социал-демократического эмигрантского комитета (см. примечание [118]) и имели целью помешать формированию самостоятельной организации пролетариата. 153 D. Diderot. «Le neveu de Rameau». In: «Oeuvres inedites de Diderot». Paris, 1821 (Д. Дидро. «Племянник Рамо». В книге: «Неизданные произведения Дидро». Париж, 1821). 154 «Клуб решительного прогресса», основанный 5 июня 1849 г. в Карлсруэ, объединял более радикальное крыло мелкобуржуазных демократов-республиканцев (Струве, Чирнер, Гейнцен и др.), недовольных капитулянтской политикой правительства Брентано и усилением в нем правых элементов. Клуб предложил Брентано распространить революцию за пределы Бадена и Пфальца и пополнить состав правительства радикальными элементами. Получив отрицательный ответ, члены клуба 6 июня попытались воздействовать на правительство угрозой вооруженной демонстрации. Однако правительство заставило их капитулировать, воспользовавшись поддержкой гражданского ополчения и других вооруженных частей. «Клуб решительного прогресса» был закрыт. 155 См. примечание 6. 156 См. примечание 16. 157 Обычными четырьмя факультетами в немецких университетах были богословский, юридический, медицинский и философский. 158 «Deutscher Zuschauer» («Немецкий зритель») — немецкая еженедельная газета радикального направления, издавалась мелкобуржуазным демократом Струве с декабря 1846 по апрель 1848 г. в Мангейме и с июля по сентябрь 1848 г. в Базеле. В Мангейме с июля по декабрь 1848 г. под этим же названием мелкобуржуазным демократом Ф. Мёрдесом продолжала издаваться газета, которая имела подзаголовок «Neue Folge» («Новое продолжение») и новую нумерацию. 159 Имеются в виду книги: К. Rotteck. «Allgemeine Weltgeschichte fur alle Stande, von den frьhesten Zeiten bis zum Jahre 1831». Bd. 1–4, Stuttgart, 1831–1833 (К. Роттек. «Всеобщая история для всех сословий, с древнейших времен до 1831 года». Тт. 1–4, Штутгарт, 1831–1833) и К. Rotteck und К. Welcker. «Das Staats-Lexikon. Encyclopadie der sammtlichen Staatswissenschaften fur alle Stande». Bd. 1—12, Altona, 1845–1848 (К. Роттек и К. Велькер. «Политический словарь. Общая энциклопедия политических наук для всех сословий». Тт. 1—12, Альтона, 1845–1848). 160 G. Struve. «Grundzuge der Staatswissenschaft». Bd. 1–4. Первые два тома книги вышли в 1847 г. в Мангейме, тома 3–4 — в 1848 г. во Франкфурте-на-Майне. 161 Речь идет о книге: G. Struve. «Geschichte der drei Volkserhebungen in Baden». Bern, 1849 (Г. Струве. «История трех народных восстаний в Бадене». Берн, 1849). 162 Имеется в виду «Republikanisches Regierungs-Blatt» («Республиканская правительственная газета»), орган мелкобуржуазных демократов; издавался Г. Струве и К. Блиндом в Лёррахе во время второго баденского восстания в сентябре 1848 года. В виде подзаголовка к газете был напечатан лозунг: «Deutsche Republik! Wohlstand, Bildung, Freiheit fur Alle!» («Немецкая республика! Благосостояние, просвещение, свобода для всех!»). 163 Речь идет о вышедшей анонимно книге А. Гёгга «Ruckblick auf die Badische Revolution unter Hinweisung auf die gegenwartige Lage Teutschlands. Von einein Mitgliede der Badischen constituirenden Versammlung». Paris, 1850 («Ретроспективный взгляд на баденскую революцию в связи с современным положением в Германии. Написано членом баденского Учредительного собрания». Париж, 1850). 164 «Deutsche Londoner Zeitung» («Немецкая лондонская газета») — еженедельная газета немецких эмигрантов в Лондоне, выходила с апреля 1845 по февраль 1851 г. при материальной поддержке отрешенного от престола герцога Карла Брауншвейгского. Редактором был мелкобуржуазный демократ Луи Бамбергер. В 1849–1850 гг. газета главным образом публиковала статьи К. Гейнцена, Г. Струве и других мелкобуржуазных демократов; наряду с этим на ее страницах были перепечатаны «Манифест Коммунистической партии» К. Маркса и Ф. Энгельса (в марте 1848 г.), первая глава «Классовой борьбы во Франции» К. Маркса (в апреле 1850 г.), часть «Третьего международного обзора» К. Маркса и Ф. Энгельса (в феврале 1851 г.) и ряд заявлений, подписанных Марксом и Энгельсом. 165 Имеется в виду оппозиционное движение немецкой интеллигенции после освобождения Германии от наполеоновского ига. Многие члены студенческих гимнастических обществ, возникших еще в период освободительной войны, после Венского конгресса (см. примечание 8) выступали против реакционного строя в немецких государствах, организовывали политические манифестации, на которых выдвигались требования объединения Германии. Убийство в 1819 г. студентом Зандом сторонника Священного союза и царского агента Коцебу послужило предлогом для репрессий против «демагогов», как были названы участники этого оппозиционного движения в постановлениях Карлсбадской конференции министров немецких государств в августе 1819 года. 166 G. W. F. Hegel. «Encyclopadie der philosophischen Wissenschaften im Grundrisse». Heidelberg, 1817 (Г. В. Ф. Гегель. «Энциклопедия философских наук в сжатом очерке». Гейдельберг, 1817). 167 «Hallische Jahrbucher» и «Deutsche Jahrbucher» — сокращенные названия литературно-философского журнала младогегельянцев, издававшегося в виде ежедневных листков в Лейпциге с января 1838 по июнь 1841 г. под названием «Hallische Jahrbucher fur deutsche Wissenscnaft und Kunst» («Галлеский ежегодник по вопросам немецкой науки и искусства») и с июля 1841 по январь 1843 г. под названием «Deutsche Jahrbucher fur Wissenschaft und Kunst» («Немецкий ежегодник по вопросам науки и искусства»). До июня 1841 г. журнал редактировался А. Руге и Т. Эхтермейером в Галле, а с июля 1841 г. — А. Руге в Дрездене. В январе 1843 г. журнал «Deutsche Jahrbucher» был закрыт саксонским правительством и запрещен постановлением Союзного сейма на всей территории Германии. 168 «Berlinische Monatsschrift» («Берлинский ежемесячник») — орган немецких просветителей; выходил в 1783–1811 годах. Журнал несколько раз менял название, в 1799–1811 гг. издавался при участии Ф. Николаи. 169 Имеются в виду книги: G. W. F. Hegel. «Vorlesungen uber die Aesthetik», Bd. I–III; Werke, Bd. X, Abt. 1–3, Berlin, 1835, 1837–1838 (Г. В. Ф. Гегель. «Лекции по эстетике», тт. I–III; Сочинения, т. X, ч. 1–3, Берлин, 1835, 1837–1838) и Н. Heine. «Die romantische Schule». Hamburg, 1836 (Г. Гейне. «Романтическая школа», Гамбург, 1836). 170 G. W. F. Hegel. «Phдnomenologie des Geistes». Bamberg und Wurzburg, 1807 (Г. В. Ф. Гегель. «Феноменология духа». Бамберг и Вюрцбург, 1807). 171 Имеется в виду сатирическая поэма Г. Гейне «Атта Троль», в которой в образе ученого медведя Атты Троля высмеивается немецкий филистер. 172 «Deutsch-Franzosische Jahrbucher» («Немецко-французский ежегодник») издавался в Париже под редакцией К. Маркса и А. Руге на немецком языке. Вышел в свет только первый, двойной выпуск в феврале 1844 года. В нем были опубликованы произведения К. Маркса: «К еврейскому вопросу» и «К критике гегелевской философии права. Введение», а также произведения Ф. Энгельса: «Наброски к критике политической экономии» и «Положение Англии. Томас Карлейль. «Прошлое и настоящее»» (см. настоящее издание, том 1, стр. 382–413, 414–429. 544–571, 572–597). Эти работы знаменуют окончательный переход Маркса и Энгельса к материализму и коммунизму. Главной причиной прекращения выхода журнала были принципиальные разногласия Маркса с буржуазным радикалом Руге. 173 Пале-Рояль — дворец в Париже, принадлежавший фамилии Орлеанов. В 30—40-е годы XIX в. на территории дворца были расположены зрелищные и увеселительные заведения; сады и галереи Пале-Рояля служили местом прогулок. 174 Имеется в виду Сосисар — персонаж фривольного романа Поль де Кока «Поклонник луны»; тип пройдохи и пьяницы. 175 О «Друзьях света» см. примечание 16. 176 М. Stirner. «Der Einzige und sein Eigenthum». Leipzig, 1845 (M. Штирнер. «Единственный и его собственность». Лейпциг, 1845). 177 Выражение, заимствованное из составленного Руге «Избирательного манифеста радикальной партии реформ в Германии» (апрель 1848 г.). в котором главной задачей общегерманского Национального собрания провозглашалось «редактирование разума событий». 178 «Die Reform. Organ der demokratischen Partei» («Реформа. Орган демократической партии») — немецкая газета, орган мелкобуржуазных демократов; издавалась А. Руге и Г. Б. Оппенхеймом под редакцией Э. Мейена с апреля 1848 г. в Лейпциге и Берлине; с лета 1848 г. до начала 50-х годов выходила в Берлине. 179 «La Reforme» («Реформа») — французская ежедневная газета, орган мелкобуржуазных демократов-республиканцев и мелкобуржуазных социалистов; издавалась в Париже с 1843 по 1850 год. С октября 1847 до января 1848 г. Энгельс опубликовал в этой газете ряд статей, 180 Имеется в виду второй демократический конгресс, происходивший в Берлине с 26 по 30 октября 1848 года. На конгрессе были представлены делегаты 260 демократических и рабочих организаций различных городов Германии. Однако разнородный состав делегатов вызвал раздоры и разногласия по важнейшим вопросам. Вместо принятия действенных мер для мобилизации масс на борьбу с контрреволюцией конгресс ограничился выработкой бесплодных, противоречивых резолюций. Так, в своем воззвании в защиту Вены, принятом 29 октября по предложению Руге, конгресс требовал от монархических немецких правительств оказания помощи революционной Вене. Маркс подверг это воззвание резкой критике на страницах «Neue Rheinische Zeitung» (см. настоящее издание, том 5, стр. 480–483). 181 «Neue Preusische Zeitung» («Новая прусская газета») — немецкая ежедневная газета, начала издаваться в Берлине с июня 1848 года; была органом контрреволюционной придворной камарильи и прусского юнкерства. Эта газета известна также под названием «Kreuz-Zeitung» («Крестовая газета»), так как в ее заголовке изображен крест. 182 О тактике пассивного сопротивления см. настоящий том, стр. 78–82, 183 «Karlsruher Zeitung» («Газета Карлсруэ») — ежедневная немецкая газета, выходила с 1757 г., официальный орган правительства Бадена, в частности правительства Брентано в 1849 году. 184 Имеются в виду статьи Руге, опубликованные без подписи под названием «Немецкая демократическая партия» в английской еженедельной либеральной газете «The Leader» («Лидер») 21 и 28 декабря 1850 года. 185 «The Morning Advertiser» («Утренний уведомитель») — английская ежедневная газета, выходит в Лондоне с 1794 года; в 50-х годах XIX в. орган радикальной буржуазии. 186 Арнольд Винкельрид — полулегендарный швейцарский воин, участник освободительной войны против австрийского гнета; согласно преданию, во время сражения швейцарцев с войсками австрийского герцога Леопольда III при Земпахе (кантон Люцерн) 9 июня 1386 г. ценой самопожертвования решил исход битвы в пользу швейцарцев. 187 Маркс и Энгельс называют Гейнцена именем одного из героев поэмы Ариосто «Неистовый Роланд» — Родомонта, отличавшегося своими хвастливыми россказнями. 188 Имеется в виду распространенный в Германии в конце XVIII и начале XIX в. морализирующий и сентиментальный роман немецкого писателя И. Т. Хермеса «Путешествие Софии из Мемеля в Саксонию». 189 Ариман — греческое наименование древнеперсидского бога Анхра-Майнью, олицетворяющего злое начало в мире. Анхра-Майнью находится в вечной и непримиримой вражде с Ахурамаздой (по-гречески — Ормузд), олицетворением доброго начала. 190 Из сказки братьев Гримм «Столик-накройся, золотой осел и дубинка из мешка». По приказу хозяина дубинка выскакивала из мешка и избивала его врагов. 191 Биллингсгет — рыбный рынок в Лондоне, пользовавшийся дурной славой из-за грубой брани, которая была в обиходе у его торговцев. 192 Речь идет о комедии Гейнцена «Doktor Nebel, oder: Gelehrsamkeit und Leben». Koln, 1841 («Доктор Небель, или: Ученость и жизнь». Кёльн, 1841). 193 Имеются в виду книги: К. Heinzen. «Die Preusische Bureaukratie». Darmstadt, 1845 (К. Гейнцен. «Прусская бюрократия». Дармштадт, 1845) и J. Venedey. «Preussen und Preussenthum». Mannheim, 1839 (Я. Венедей. «Пруссия и пруссачество». Мангейм, 1839). 194 Французское судопроизводство было введено в завоеванных французами областях Германии в 1811 году. В Рейнской области оно сохранилось и после присоединения ее к Пруссии в 1815 году; лишь постепенно французское судопроизводство вытеснялось здесь прусским. 195 Имеется в виду книга: К. Heinzen. «Ein Steckbrief». Schaerbeek, 1845 (К. Гейнцен. «Приказ об аресте». Схар-бек, 1845). 196 «Schnellpost» — сокращенное название газеты «Deutsche Schnellpost fur Europaische Zustande, offentliches und sociales Leben Deutschlands» («Немецкие экстренные сообщения о положении в Европе, об общественной и социальной жизни Германии»), органа немецких мелкобуржуазных демократов-эмигрантов в США, выходившего в Нью-Йорке в 1843–1851 гг. два раза в неделю. В 1848 и 1851 гг. редактором газеты был К. Гейнцен, в 1851 г. в состав редакции входил также А. Руге. Газета имела приложение «Wochenblatt der Deutschen Schnellpost» («Еженедельник немецких экстренных сообщений»). 197 «Mannheimer Abendzeitung» («Мангеймская вечерняя газета») — ежедневная немецкая газета радикального направления, основана в 1842 г. К. Грюном, который вскоре стал представителем «истинного социализма» (см. примечание 15). Газета прекратила свое существование в конце 1848 года. 198 Имеется в виду изданная в 1848 г. брошюра: К. Heinzen. «Frankreichs «Bruderlicher Bund mit Deutschland»». Rheinfelden (К. Гейнцен. «Французский «Братский союз с Германией»». Рейнфельден). 199 Альчина — персонаж из поэмы Ариосто «Неистовый Роланд»; злая волшебница. 200 Квакеры (официальное название — «Общество друзей») — христианская протестантская секта, образовавшаяся в Англии во время буржуазной революции XVII в. и получившая широкое распространение также в Северной Америке. Квакеры отвергали официальную церковь с ее обрядностью, проповедовали пацифистские идеи. «Мокрыми» квакерами называли (в отличие от ортодоксальных членов секты — «сухих» квакеров) сторонников возникшего в 20-х годах XIX в. течения, выступавшего за обновление догмы квакерства. 201 Европейский центральный комитет (полное название — Центральный комитет европейской демократии) был создан в июне 1850 г. в Лондоне по инициативе Мадзини. Комитет представлял собой организацию, объединявшую буржуазных и мелкобуржуазных эмигрантов из разных стран. Крайне неоднородная как по своему составу, так и по идейным позициям, организация просуществовала недолго; из-за обострившихся отношений между итальянскими и французскими эмигрантами-демократами Центральный комитет европейской демократии уже к марту 1852 г. фактически распался. 202 «Proscrit» — сокращенное название ежемесячного органа Центрального комитета европейской демократии «Le Proscrit, journal de la republique universelle» («Изгнанник, журнал всемирной республики»); издавался в Париже в 1850 году. Вышло два номера. В редакцию журнала входили Ледрю-Роллен, Мадзини, Хауг, Э. Араго, Дараш, Делеклюз, Ворцель. С конца октября 1850 г. преобразован в еженедельный журнал «La Voix du Proscrit» («Голос изгнанника»), который выходил в Сент-Амане (Франция) до сентября 1851 года. 203 «Bremer Tages-Chronik» («Бременская ежедневная хроника») — немецкая демократическая газета, выходила в 1849–1851 годах; с марта 1850 г. редактором газеты был Р. Дулон. 204 «Paris vaut bien une messe» («Париж стоит обедни») — слова Генриха IV, сказанные им в 1593 г. в связи с обещанием парижан признать его королем при условии перехода его из протестантства в католичество. 205 Великим сражением при Бронцелле здесь иронически называется незначительная стычка между прусским и австрийским передовыми отрядами 8 ноября 1850 г. во время восстания в Кургессене; Пруссия и Австрия, боровшиеся за гегемонию в Германии, оспаривали друг у друга право вмешательства во внутренние дела Кургессена с целью подавления восстания. В этом конфликте с Австрией, получившей дипломатическую поддержку со стороны России, Пруссии пришлось уступить. 206 Иобс — герой популярной в конце XVIII и начале XIX в. сатирической поэмы К. А. Кортума «Иобсиада». 207 Слова и выражения, по поводу которых иронизируют Маркс и Энгельс, заимствованы в перефразированном виде из текста обращения «К немцам» Центрального комитета европейской демократии, опубликованного в журнале «Voix du Proscrit» в ноябре 1850 года. 208 Речь идет о международном конгрессе, созванном буржуазными пацифистами во Франкфурте-на-Майне в августе 1850 года. Видную роль на конгрессе играли американский буржуазный филантроп Элихью Бёррит, лидер английских фритредеров Кобден, французский буржуазный политический деятель и публицист Жирарден, немецкий либерал, бывший глава либерального правительства в Гессен-Дармштадте Яуп; в конгрессе участвовали представители религиозной секты квакеров, а также вождь одного из индейских племен. Произнесенные на конгрессе речи носили ханжеский и лицемерный характер. 209 Имеется в виду книга: Н. Harring, «Historisches Fragment uber die Entstehung der Arbeiter-Vereine und ihren Verfall in Communistische Speculationen». London, 1852 (X. Харринг. «Исторический фрагмент о возникновении рабочих союзов и их впадении в коммунистическую спекуляцию». Лондон, 1852). 210 Гамбахское празднество — политическая манифестация 27 мая 1832 г. у замка Гамбах в баварском Пфальце, организованная представителями немецкой либеральной и радикальной буржуазии. Участники празднества выступали с призывами к единству всех немцев против немецких государей во имя борьбы за буржуазные свободы и конституционные преобразования. 211 Имеются в виду «Deutschland», демократический орган, выходивший под редакцией Харро Харринга в Страсбурге с декабря 1831 по март 1832 г., а также следующие книги этого автора: «Die Volker. Ein dramatisches Gedicht. Ehre. Freiheit. Vaterland». Strasburg, 1832 («Народы. Драматическое стихотворение. Честь. Свобода. Родина». Страсбург, 1832); «Blutstropfen. Deutsche Gedichte». Strasburg, 1832 («Капли крови. Немецкие стихотворения». Страсбург, 1832); «Die Monarchie, oder die Geschichte vom Konig Saul». Strasburg, 1832 («Moнархия, или история царя Саула». Страсбург, 1832); «Manner-Stimmen, zu Deutschlands Einheit. Deutsche Gedichte». Strasburg, 1832 («Голоса мужей. К единству Германии, немецкие стихотворения». Страсбург, 1832). 212 Серная банда — первоначально название студенческого объединения в Йенском университете в 70-х годах XVIII в., пользовавшегося дурной славой из-за дебошей, учинявшихся его членами; впоследствии выражение «серная банда» стало нарицательным. 213 Речь идет о походе революционеров-эмигрантов, организованном буржуазным демократом Мадзини в 1834 году. Отряд повстанцев, состоявший из эмигрантов различных национальностей, под командованием Раморино вторгся из Швейцарии в Савойю, но был разбит пьемонтскими войсками. 214 «Молодая Европа» — международное объединение революционных организаций политических эмигрантов, основанное по инициативе Мадзини в 1834 г. в Швейцарии и просуществовавшее до 1836 года. В состав «Молодой Европы» входили национальные организации: «Молодая Италия», «Молодая Польша», «Молодая Германия» и другие. Объединение ставило себе целью установление республиканского строя в европейских государствах. 215 В июне 1844 г. братья Бандьера, члены тайной заговорщической организации, предприняли во главе небольшого отряда итальянских патриотов высадку на побережье Калабрии. Целью повстанцев было поднять в Италии восстание против неаполитанских Бурбонов и австрийского господства. В результате предательства одного из членов отряда власти захватили участников экспедиции в плен, братья Бандьера были расстреляны. 216 Имеются в виду сторонники немецкой Аугустенборгской династии, которая оспаривала у датских королей право на владение Шлезвиг-Гольштейном. 217 Имеется в виду совещание России, Австрии и Пруссии, созванное по инициативе России в Варшаве в октябре 1850 г. с целью оказать давление на Пруссию и заставить ее отказаться от планов объединения Германии под своей эгидой. 218 «La Patrie» («Родина») — французская ежедневная газета, основана в 1841 г., в 1850 г. выражала интересы объединенных монархистов, так называемой партии порядка, являясь органом их избирательного блока; в дальнейшем бонапартистская газета. 219 «L'lndependance belge» («Независимость Бельгии») — ежедневная буржуазная газета, основана в Брюсселе в 1831 году; орган либералов. 220 Из выступления Ганземана на заседании Соединенного ландтага в Берлине 8 июня 1847 года. 221 Имеется в виду образованная после февральской революции 1848 г. во Франции Правительственная комиссия по рабочему вопросу, заседавшая в Люксембургском дворце в Париже. Эта так называемая Люксембургская комиссия была создана буржуазией с целью отвлечь рабочие массы от революционных выступлений, она не имела финансовых средств и не обладала какой-либо властью. Практическая деятельность комиссии, возглавленной Луи Бланом, свелась к посредничеству между рабочими и предпринимателями. После выступления народных масс 15 мая 1848 г. (см. примечание 30) правительство ликвидировало комиссию. 222 Тост Бланки, который организаторы митинга 24 февраля 1851 г. (так называемого «банкета равных») пытались скрыть от общественного мнения, был опубликован в ряде французских газет. Маркс и Энгельс перевели этот тост на немецкий и английский языки, снабдив его предисловием (см. настоящее издание, том 7, стр. 569–570). Немецкий перевод был напечатан большим тиражом и распространялся в Германии и Англии. 223 Маркс и Энгельс называют Кинкеля именем библейского пророка Иеремии. «Плач Иеремии» по поводу разрушения Иерусалима вошел в литературу как пример горьких сетований и жалоб (отсюда выражение — иеремиада). 224 «The Morning Chronicle» («Утренняя хроника») — ежедневная английская буржуазная газета, выходившая в Лондоне с 1770 по 1862 год; орган вигов, в начале 50-х годов орган пилитов, затем консерваторов. 225 Имеется в виду государственный переворот Луи Бонапарта во Франции 2 декабря 1851 года. 226 Апокалипсис — одно из произведений раннехристианской литературы, входящее в Новый завет. Авторство книги приписывается апостолу Иоанну. Мистические пророчества о «конце света» и «новом пришествии Христа», содержащиеся в Апокалипсисе, часто использовались в еретических народных движениях средневековья. Впоследствии пророчества Апокалипсиса использовались церковниками для запугивания народных масс. 227 См. примечание 93. 228 См. примечание 33. 229 «New-Yorker Staatszeitung» («Нью-йоркская государственная газета») — ежедневная немецкая демократическая газета, выходившая с 1834 года; впоследствии один из органов демократической партии США. 230 Маркс и Энгельс называют Шертнера именем Силена — согласно греческой мифологии, спутника бога вина и виноделия Диониса. 231 Goethe. «Anmerkungen uber Personen und Gegenstande, deren in dem Dialog: «Rameau's Neffe» erwдhnt wird» (Гёте. «Замечания о лицах и предметах, упоминаемых в диалоге: «Племянник Рамо»»). 232 Пистоль — персонаж ряда произведений Шекспира («Веселые виндзорские кумушки», «Король Генрих IV», «Жизнь короля Генриха V»); бахвал и лгун. 233 См. примечание 90. 234 Предпарламент — собрание общественных деятелей немецких государств, которое происходило во Франкфурте — на-Майне с 31 марта по 4 апреля 1848 года. Подавляющее большинство делегатов Предпарламента принадлежало к конституционно-монархическому направлению. Предпарламент вынес решение о созыве общегерманского Национального собрания и разработал проект «Основных прав и требований германского народа» — документ, который провозглашал на словах некоторые буржуазные свободы, но не затрагивал основ полуфеодального абсолютистского строя тогдашней Германии. 235 Маркс и Энгельс называют Гейнцена именем Януса — древнеримского божества, которое изображалось с двумя лицами, обращенными в противоположные стороны; в переносном смысле Янус — двуличный человек. «Янус» («Janus») называлась также газета, издававшаяся Гейнценом в 1851–1852 гг. в Соединенных Штатах Америки, в которой он выступал с нападками на Маркса. 236 Святой Граль — согласно средневековой легенде, драгоценная чаша, обладающая чудодейственной силой. 237 Намек на древнегреческую комическую поэму неизвестного автора «Война мышей и лягушек» («Батрахо-миомахия»), представляющую собой пародию на эпос Гомера. 238 Речь идет о взглядах Виллизена, изложенных им в книге: «Theorie des grosen Krieges angewendet auf den russisch-polnischen Feldzug von 1831». In zwei Theilen. Berlin, 1840 («Теория большой войны в применении к русско-польской кампании 1831 года». В двух частях. Берлин, 1840). Виллизен в построении своей теории исходил не из фактического материала истории военного искусства, а из отвлеченных философских положений. 239 Имеется в виду отряд, организованный Виллихом из немецких эмигрантов — рабочих и ремесленников в Безансоне (Франция) в ноябре 1848 года. Члены отряда получали пособие от французского правительства, но в начале 1849 г. выплата пособия была прекращена. Впоследствии отряд вошел в состав так называемого корпуса Виллиха, принимавшего участие в баденско-пфальцском восстании в мае — июне 1849 года. 240 Имеется в виду 34-я песнь поэмы Ариосто «Неистовый Роланд». Поэма Ариосто была написана как продолжение поэмы Боярдо «Влюбленный Роланд». 241 Выражение Катона Старшего, приведенное в книге Цицерона «De divinatione» («О прорицании»); гаруспики — в древнем Риме прорицатели, гадавшие по внутренностям жертвенных животных. 242 Имеется в виду «Битва гуннов» — известная картина немецкого художника Каульбаха. На картине изображена битва духов павших воинов, происходящая в воздухе над полем сражения. 243 Парцифаль — герой ряда средневековых поэм; рыцарь, отправившийся на поиски святого Граля (см. примечание 236); совершив ряд подвигов, Парцифаль становится хранителем святого Граля. |
|
||
