|
||||
|
|
ПРЕДАТЕЛИ И ГЕРОИ До войны агентурной разведки в Японии Россия не имела. Военным агентом (атташе) в Токио состоял уже знакомый нам полковник генерального штаба Самойлов. По роду службы ему надлежало регулярно составлять обзоры по японским вооруженным силам. Он это делал. Каждый месяц специальный курьер с особыми предосторожностями доставлял от него в генеральный штаб пакет, запечатанный наглухо сургучными печатями с личным его оттиском. Однако, вскрыв пакет, штабные офицеры чаще всего оказывались в недоумении: материал, подаваемый полковником как «секретный», был давно им известен и строился на сведениях, почерпнутых главным образом из газет. Пятый отдел генерального штаба не стеснялся не раз указывать ему на это. Но нарекания эти не вызывали у полковника ни малейшего чувства неловкости. Другой военный агент в Японии, полковник Ванновский, племянник и протеже военного министра, был не лучше. «Японская армия, — писал он в секретном докладе, адресованном высшим военным чинам России, — далеко еще не вышла из состояния внутреннего неустройства, которое неизбежно должна переживать всякая армия, организованная на совершенно чуждых ее народной культуре основаниях, усвоенных с чисто японской слепой аккуратностью и почти исключительно по форме, а отнюдь не по существу, как, впрочем, это замечается во всех прочих отраслях современной японской жизни. Вот почему, если, с одной стороны, японская армия уже давно не азиатская орда, а аккуратно, педантично организованное по европейскому шаблону, более или менее хорошо вооруженное войско, то с другой — это вовсе не настоящая европейская армия, создавшаяся исторически, согласно выработанным собственной культурой принципам. Пройдут десятки, может, сотни лет, пока японская армия усвоит себе нравственные основания, на которых зиждется устройство всякого европейского войска, и ей станет по плечу тягаться на равных основаниях хотя бы с одной из самых слабых европейских держав... » Этот вывод был сочтен военным министром вполне убедительным. На докладе Ванновского он написал: «Читал. Увлечений наших бывших военных агентов японской армией уже нет. Взгляд трезвый». На таких докладах строились представления о боевых качествах японской армии. По мнению главного специалиста, занимавшегося этим вопросом при генеральном штабе, в случае войны Япония могла бы выставить не более 150 тысяч солдат. Япония выставила против русских 375 тысяч, мобилизовав 1 миллион 200 тысяч. Да, Россия была готова к войне, но с той Японией и с той ее армией, которая, по словам Ванновского, лишь через десятки или сотни лет оказалась бы способна тягаться с армией хотя бы одной из слабейших европейских держав. На этих ожиданиях строились и стратегические планы генерального штаба. С началом войны главнокомандующий русской армии генерал Куропаткин представил царю доклад — план предстоящей кампании. В том, что японские части будут разбиты легко и быстро, командующий не сомневался. «После разгрома японской армии на материке, — заканчивался доклад, — должен быть произведен десант в Японии, должно быть подавлено народное восстание и война должна закончиться занятием Токио». Легко осуждать наивность этого плана нам, чье преимущество заключается лишь в том, что мы живем значительно позднее и в силу этого нам известен последующий ход событий. План кампании, составленный Куропаткиным, не был химерой. Он был построен в строгом соответствии с данными о японской армии, представленными разведкой. Разведкой, которой не было. Ее не было, несмотря на то, что дальневосточным пограничным округам каждый год на разведку отпускались крупные средства. И несмотря на то, что каждый год средства эти расходовались исправно. С каким результатом? Вот строки одного из отчетов: «Штаб Квантунской области, 1904 г. Отпущено на разведку 3000 руб. Представлено: ничего не представлено. Штаб Приамурского округа, 1904 г. Отпущено на разведку 12000 руб. Представлено: ничего не представлено». Предпринимались и другие усилия. С таким же, однако, эффектом. Так, накануне войны был составлен проект специального «разведочного бюро», которое охватывало бы своим вниманием пограничные с Россией страны Востока, и в первую очередь Японию. Ежегодная деятельность такого бюро равнялась бы стоимости одного миноносца. «Разведывательное бюро, — писали авторы проекта, — принесет России значительно большую пользу, чем миноносец». В военных верхах, однако, предпочтение отдано было миноносцу. Проект же этот, как и другие, был сдан в архив, не возымев никаких последствий. Отсутствие разведки с первых же дней войны имело для русских войск результаты катастрофические. Каковы силы, каково расположение японских войск, откуда следует ожидать удара — все это представлялось командованию даже не в тумане, а покрытым совершенным мраком. Неизвестно было расположение не только отдельных частей — целых неприятельских армий. В апреле 1904 года Куропаткин телеграфирует с театра военных действий военному министру в Петербург. Главнокомандующий сообщал, что он «все еще в неизвестности, где Вторая японская армия. По некоторым сведениям, — гласил текст телеграммы, — можно предполагать, что часть Второй армии высадилась в Корее. Крайне желательно выяснить это достоверно. Не представляется ли возможность, жертвуя большими суммами денег, выполнить это через наших военных агентов более положительным образом, чем ныне». Военные агенты, находившиеся в Осло, Пекине или Женеве, могли, оказывается, успешнее разведать расположение неприятельской армии, чем на это был способен аппарат главнокомандующего, находящийся на театре военных действий. Работа штабного разведчика нередко сводилась к деятельности довольно будничной и прозаической. Тем неожиданней и драматичнее оказывались порой результаты этой работы. Когда прапорщик приступал к сравнению переводов, он понимал, что неизбежно найдет там неточности и ошибки и должен будет доложить о них полковнику. Конечно, так было ему приказано, он не сам напросился, но все равно ситуация представлялась малоприятной. Во всем этом было нечто от доносительства. Впрочем, терзания его оказались напрасны. Переводы китайца, если не считать мелочей, были безупречны. О чем он не замедлил доложить полковнику, радуясь не столько за Миня, сколько за себя. Полковник, разгадав, наверное, его радость, улыбнулся едва заметно. — Устный японский хорошо понимаете? — Отлично, господин полковник! — И поправился: — Вполне прилично. — Ну и хорошо. Ну и слава богу. Благодарю вас. — И, заметив его разочарование, добавил: — Полагаю через несколько дней вы будете мне нужны. Потребовался он, однако, значительно раньше. К вечеру того же дня в штаб был доставлен пленный. — Капитан, — передавали друг другу новость офицеры. — Наши пластуны взяли. Не раненый. Помяли немного, но отошел. Хотя был уже конец дня, прапорщик не стал уходить, ожидая, что о нем вспомнят. И не ошибся. Полковник ждал его в кабинете. Еще одна деликатная ситуация, прапорщик. Впрочем, привыкайте. Через несколько минут начнется допрос. Толмачом, как всегда, будет Минь. Запись допроса я поручаю вести вам. Не случалось участвовать в допросах? Я так и думал. Вот и хорошо, значит, будет практика. Заодно прислушайтесь, точно ли будет он переводить. Все-таки письменный текст — это одно. А потом доложите мне... Наверное, не нужно было быть физиономистом, чтобы прочесть все, что чувствовал прапорщик в ту минуту, на его лице. — Задержитесь, — полковник встал из-за стола. — Ну вот, опять обиделись? Трудно вам будет жить на свете, господин прапорщик. — Кстати, — продолжал полковник. — Вы ведь читаете газеты. Не попадался вам там поучительный эпизод с американским адмиралом Эвансом? Нет? Жаль. Так вот, несколько лет у адмирала был слуга-японец. Он подавал ему туфли, чистил платье. Потом взял расчет а уехал. А через год, когда адмирал поднялся с официальным визитом на борт японского крейсера, в его командире он узнал бывшего своего слугу. Высший офицер флота служил лакеем! Впрочем, мне кажется эта история вас не убедила. ...Прапорщик впервые видел врага лицом к лицу. «Это враг», — говорил он себе. Если бы случай свел их не здесь, а где-нибудь на передовой, в окопе, японец не задумываясь, убил бы его. «Это враг», — повторил он себе, досадуя, что так и не смог почувствовать к пленному ничего, кроме любопытства. Другим тоже, видно, было интересно, и по пути, как вели японца, из-за дверей выглядывали писари, офицеры, солдаты охраны. Лицо капитана не выражало ничего, глаза за толстыми стеклами очков были исполнены безразличия ко всему. В газетах писали, что, если японский офицер, попавший в плен, возвращался потом к своим, он делал себе харакири. Позор плена не оставлял ему права жить. Поэтому и капитан считал себя, видно, как бы уже не живущим. И не имело ни малейшего смысла все, что могло бы произойти сейчас, в этом безвременном промежутке между прежним его бытием и минутой, когда ему дано будет вспороть себе живот, чтобы уйти из жизни. Все это не имело значения. Он не был намерен ни покупать себе жизнь, ни избегать страданий, если русские станут пытать его. — Назовите пленному мое звание и переведите ему, — начал допрос полковник, — переведите, что я Я мои офицеры восхищены храбростью японской армии. Мы также высоко ценим смелость и мужество господина капитана. Минь перевел точно и быстро. Прапорщик едва успевал записывать. При звуках японской речи некое движение прошло по бесстрастному лицу капитана. Сказанное как бы разорвало на какой-то миг круг его безразличия. Почти врожденная, поколениями воспитанная вежливость не могла позволить ему оставить без ответа слова признания, даже когда их произносил враг. Прапорщик удержался, чтобы не начать писать, что ответил японец, не дождавшись, пока Минь произнесет эти слова по-русски: капитан считает честью для себя беседовать с доблестным русским офицером. Полковник сидел за своим столом, пленный — на стуле перед ним, почти посредине кабинета, Минь — сбоку, как бы между ними. Прапорщик с чернильницей и бумагами расположился за столиком в стороне, чтобы пленному не бросалось в глаза, что каждое слово его записывают. — Сожалею об обстоятельствах, — произнес полковник, — в которых мы с вами встретились. — Сожалею об обстоятельствах, в которых мы с вами встретились, — перевел Минь. «Сожалею об обстоятельствах, в которых мы с вами встретились», — записал прапорщик. — Оба мы офицеры, — продолжал полковник. — Оба давали присягу, я своему государю, вы — своему. Я хорошо понимаю вас и не собираюсь предлагать вам что-то, противное офицерской чести и принятой вами присяге. Минь перевел, прапорщик записал сказанное. Капитан между тем вернулся в прежнее свое состояние, и круг безразличия сомкнулся снова над ним. Он ответил учтивостью на учтивость, и больше не существовало для него ни этих стен, ни врагов, находившихся в этих стенах и творящих какие-то слова. — Вам нет нужды сообщать мне что-либо. — Полковник пытался пробиться сквозь стену его отрешенности. — Я сам назову вам некоторые данные, собранные нашей разведкой, и вы только подтвердите их правильность. Ничего сверх этого. Это был ход. Капитан готов был, очевидно, стать мучеником, а оказалось никто не ждет и не требует от него этого. Полковник знал свое дело и знал, как говорить с этими людьми. Пожалуй, зря прапорщик не рассказал ему об Идее. — Вам будут названы некоторые данные, полученные русской разведкой, и от вас ожидают подтверждения их, если они верны, — произнес Минь по-японски. Перевод был не совсем точен, но достаточно близок. — Каждое сказанное вами слово, — продолжал Минь без паузы, — будет нарушением присяги. Друзья Японии постараются, чтобы об этом стало известно у вас в армии и на родине. Прапорщику показалось, что он ослышался. Несколько секунд он не верил себе. Но по тому, как изменилось лицо пленного, понял, что чудовищные эти слова действительно были произнесены. — Предатель! — закричал он и вскочил, указывая на Миня. — Предатель! Он успел заметить взгляд полковника и прочесть в нем досаду. Часовой у дверей зачем-то вскинул винтовку. Все это были какие-то доли секунды, которые сознание его фиксировало с точностью фотоаппарата. Только доли. Потому что уже через мгновение Минь был на ногах. Прапорщику показалось, что китаец бросится на него. Но тот, словно не видя его, метнулся мимо, к окну. Тогда, не думая ни о чем, на одном инстинкте, прапорщик бросился за ним, повиснув на китайце сзади и пытаясь свалить его на пол. Минь отшвырнул прапорщика, но тот тут же вскочил, не чувствуя боли, и снова повис на Мине. Китаец снова отшвырнул его, и, падая, прапорщик успел заметить в его руке узкое, длинное лезвие. И тут оглушительно грохнул выстрел. Это часовой опомнился и, не понимая, что происходит, выстрелил в воздух. Минь обернулся на выстрел, и этой секунды было достаточно. Прапорщик бросился не на китайца, а только на его руку, державшую на отлете нож, рванул ее на себя и вверх, закручивая за спину. Нож упал, впившись лезвием в доски. Минь рванулся было, и прапорщик почувствовал, что теряет его, как вдруг китаец обмяк и бессильно опустился на пол. Только сейчас он заметил полковника, который нанес предателю молниеносный и едва уловимый удар. В ту же секунду дверь распахнулась, в комнату ввалились офицеры и солдаты охраны, сбежавшиеся на выстрел. — Увести, — кивнул полковник на пленного. — И этого тоже. Китайца стали поднимать с пола. — Стойте! — остановил полковник. — Обыскать. Тут только прапорщик заметил, что мир вокруг него непривычно расплывчат и тускл, а вместо лиц белели только какие-то пятна. Ему помогли разыскать пенсне, которое не разбилось чудом. Герой! — Обступив, офицеры дружески хлопали его по плечу. Несколько пожилых молча пожали руку. Он не ощущал ничего, ни радости, ни волнения. И вдруг почувствовал, что мелко дрожит — ноги, подбородок, руки, и главная мысль, главная тревога была, чтобы другие не заметили этого. Оставшись с прапорщиком, полковник долго молчал. Временами он потирал ладонь и морщился. Прапорщик ожидал похвалы. Но он ее не услышал. — Вы испортили всю игру, — произнес наконец полковник. — Вы нарушили мой приказ. Вам надлежало доложить обо всем мне. Что он сказал? Прапорщик повторил. — Тем не менее. — Полковник снова потер ладонь. — Приказ вы должны были выполнить! У нас были данные, что из штаба происходит утечка. Я предполагал, что это Минь. Если бы вы смолчали, мы могли бы поставлять через него ложные сведения о наших делах. Вами сорвана операция. Я имею все основания, прапорщик, требовать вашего отчисления, — заключил он жестко. — Если бы мне сказали, господин полковник. Предупредили... — Вас? — Полковник усмехнулся недобро. — Отлично представляю, что бы за этим последовало! Каким Натом Пинкертоном вообразили бы себя! Пожалуй, вообще спугнули бы его. Сейчас негодяй хотя бы в наших руках! Нет, господин прапорщик! Хоть вы и обижаетесь, что я назвал вас студентом, но человек вы, простите, сугубо штатский. Чтобы стать офицером, мало надеть мундир. Впрочем, я не буду требовать отчисления. К сожалению, я не могу позволить себе расстаться с вами. Мой отдел не может оказаться без переводчика. Почему-то сейчас прапорщик забыл, о чем помнил всегда — говорить так, чтобы в словах его звучали те нотки уверенности и авторитета, которые слышались ему в голосе других офицеров. — Господин полковник, я давно ждал случая... — И не к месту, и совсем не ко времени он стал рассказывать о своей Идее. Полковник слушал, не прерывая. — Я понял вас, — перебил он его наконец. — Вам представляется, и совершенно справедливо, что иная психология, религия и культура противника требует от нас другого подхода. Мы же воюем с японцами так же, как если бы мы воевали с какой-нибудь европейской нацией. Совершенно согласен с вами. Но, к сожалению, мы на войне. Глобальные идеи хороши в мирное время. Поэтому я хотел бы вернуть вас к конкретным нашим делам. Можем ли мы, руководствуясь вашей мыслью, сделать так, чтобы капитан дал нам показания? Или Минь? — Что касается Миня, господин полковник... Его оставьте. Им я займусь сам. Кстати, скажите там адъютанту, чтобы привели его. Прямо сейчас. Сами можете быть свободны. Да, еще одно. Сегодня, кроме, простите, глупости, вы проявили еще и смелость. Я ценю это. Я представлю вас к награде. Когда Минь переступил порог привычного кабинета где бывал множество раз, два штыка упирались ему в спину. — Ты знаешь, что тебя ждет, — полковник, всегда отменно вежливый, просто не мог произнести «вы» обращаясь к предателю. — Тебя ждет петля, Минь! И ты это знаешь. На пулю не надейся. Я не жалею тебя. Ты понимал, на что шел. Но я хочу дать тебе шанс. Я могу указать в рапорте, что ты оказал значительные услуги нашей разведке, и просить о снисхождении. Тебе могут оставить жизнь. Но для этого я должен иметь основания. Думаю, ты меня понимаешь. Минь наклонил голову. — Господин полковник... — Нет! — Полковник кивнул конвойным. — Я не желаю говорить с тобой сейчас. Уведите. «Сейчас он может еще торговаться. К утру сломается окончательно» — так рассчитал полковник. Но утром ему пришлось начинать допрос с другого: Вей был найден зарезанным на ступенях своего дома. — ...Ты знал об этом? Минь покачал головой. Это могло означать как «да», так и «нет». — Знал? Все знали, что это должно случиться. Раньше или позже. Пока Вей просто служил русским, это было его дело. Но когда он выдал своих в Чженьяньтуне, дни его были сочтены. Это понимал, это знал каждый. Так отвечал Минь. Допрос продолжался весь день и был продолжен на следующий. Результатом его было снаряжение летучего отряда из казаков. — Вы идете с отрядом. — Полковник говорил устало, и прапорщику показалось, что он даже осунулся за эти дни. — Вы и вахмистр. Но ваше дело не стрелять. Это умеют делать другие. Вы переводчики. Надеюсь, вам найдется что делать. Полковник не ошибся, им нашлось дело. Около станции Хайлар пятеро китайцев были схвачены на месте преступления — они пытались заложить пироксилиповые патроны под рельсы. Захватив диверсантов, солдаты едва отошли от полотна, как по рельсам простучал тяжелый воинский эшелон. Еще двух японцев удалось схватить близ станция Фуляэрди. Они собирались взорвать мост через реку Нони. В другом, правда, им повезло меньше, вернее — не повезло вообще. За несколько часов до появления отряда близ станции Хайчен в воздух взлетел большой железнодорожный мост. Когда они прибыли, развороченные рельсы были еще теплыми и в воздухе пахло толом[14]. Китайские диверсанты и двое японцев были тем «отступным», той платой, которую Минь давал за свою голову. В бумагах, направленных военно-полевому суду, полковник упомянул о ценных сведениях, сообщенных Минем после ареста. Однако суд смягчающих обстоятельств в этом не усмотрел. Правда, Минь не был повешен, его расстреляли. Это единственное снисхождение, которое было ему оказано. — Хочу показать интересного человечка, господин прапорщик, — обратился к нему как-то вахмистр, придав лицу выражение такого простодушия, что сразу стало понятно, что он задумал какую-то хитрость. Через минуту в дверях появился китаец-кули в выцветшей старой блузе, с неизменной косой. Войти он не смел и только топтался на пороге, боязливо озираясь и кланяясь двум страшным большим начальникам. — Давай не робей, ходя[15], — подбодрил его вахмистр, но тот никак не мог решиться переступить порог, а после окрика вахмистра засуетился еще испуганней. — Ну? Каков? — осведомился вахмистр, торжествуя неведомо по какому поводу. — В агенты? — Прапорщик с сомнением покосился на вахмистра. В этом случае китаец вообще не должен был бы приближаться к штабу. — Так ведь дурак же! Сразу видно. Дармоедов у нас и так хватает. Вахмистр не сдерживал уже улыбки. — Ну-ка, ходя, подай голос! Кто ты такой есть. Китаец перестал дрожать, распрямился, стал «смирно» и совсем заправским, солдатским жестом приложил руку, как к козырьку, к засаленной тряпке, обмотанной вокруг головы. — Чемарского пехотного полка рядовой Василий Рябов, ваше благородие! — с рязанским напевом выпалил он.И уже не солдат, а мужик, довольный своей проделкой, смотрел на прапорщика озорно и радостно. Вахмистр веселился больше всех: Слышу вчера у солдат смех, вся казарма собралась. Целое представление! А это он! Пошли, Василий, я тебя еще другим господам офицерам покажу! Спектакль повторялся еще и еще раз, и всякий раз вахмистр веселился и радовался, как впервые. От каких случайностей, неуловимых сцеплений обстоятельств зависит судьба человека! Случилось так, что именно в тот день в штабе оказался глава армейской разведки генерал Ухач-Огорович, прибывший из ставки. Услышав от офицеров о необыкновенном солдате, он не преминул заметить полковнику: — А еще жалуетесь, что к японцам посылать некого. Вот его, Рябова, и пошлите! А что, неплохая мысль, господа? Полковник знал много способов не исполнять вздорное приказание. Возражать было самым худшим из них. Генерал Ухач-Огорович был поставлен во главе разведки, которую, по сути дела, еще предстояло создать. В этом и состоял, в частности, смысл теперешней инспекционной его поездки по штабам корпусов и армий. — Господа, — объявил полковник. — Его превосходительство генерал Ухач-Огорович изъявил желание встретиться с нами для неофициальной беседы. Встреча оказалась малолюдной, приглашены были лишь немногочисленные сотрудники отдела разведки. Прошу, господа, без церемоний. По-домашнему, — пробасил генерал. Генерал рассказал несколько историй. О том, как разъезд поручика Шванебаха наткнулся на двух лам, которые молились в кибитке и которые оказались вовсе не ламами, а переодетыми японскими офицерами. О казацкой сотне, которая, проходя Ый-Чжу, захватила там переодетого майора японского генерального штаба Тацуиро с пятью нижними чинами и двумя штатскими. О шпионах-китайцах, которые, находясь в тылу боевых распорядков наших войск, переговаривались с японцами при помощи красных и белых тряпок, намотанных на шесты. Или вот еще поучительный случай... Однако за всеми этими случаями не было обшей картины и не вставало единого плана на будущее. Может, поэтому разговор так легко свернул на более легкую тему — о прошлом. Как оправдать провалы, объяснить неудачи и поражения — тому у генерала готовы были убедительные доводы и аргументы. Конечно, кое-что недоучли, недодумали, упустили, но в основном повинны были обстоятельства. И действительно. Возможно ли было помешать шпионажу, если только в Уссурийском крае из 223 тысяч жителей 46 тысяч были пришлые — японцы, маньчжуры, китайцы! А сколько японцев оседало в городах близ казарм, военных частей и доков! Кто бывал во Владивостоке, помнит, наверное, фотографа Нарита. Он был японец и исчез недели за две до войны. Так вот, этот Нарита занимался групповыми фото офицеров. Он делал это лучше и дешевле других. Благодаря ему японцы имели полное представление о командном составе наших войск в городе. Впрочем, во многом мы сами виноваты. Помню, несколько лет назад в Иркутске мы как лучшего гостя принимали японского атташе Фукусима. Он следовал в Европу, в Париж или Лондон и не мог выбрать лучшего пути, кроме как через весь наш Дальний Восток и Сибирь. Железной дороги тогда еще не было, и весь путь он проделал верхом. Оказалось, Фукусима тогда уже был капитаном генерального штаба. Сейчас он руководит разведкой армии генерала Куроки, воюющей против нас. Что могла противопоставить тогдашняя Россия этому тотальному шпионажу? — Господин генерал, — решился один из офицеров. — Некоторые полагают, что наша разведка ограничивается театром военных действий и дальше, так сказать, интересов своих не простирает. Справедливо ли это предположение? Генерал посмотрел строго и вопросительно. Однако даже не на говорившего, а на полковника, поскольку это был его подчиненный. После чего заметил строго: — Во время войны таких вопросов не задают! — А если задают, то на них не отвечают! — подхватил полковник несколько даже весело. Получилось так, что все, мол, у нас обстоит замечательно, только это тайна! И, подразумевая этот невысказанный подтекст, генерал кивнул полковнику — и рад бы, дескать, поведать об этом, да не могу, не имею права. И все же, вздумай генерал Ухач-Огорович ответить на этот щекотливый вопрос, он должен был бы признать, что такой разведки у ставки нет. Едва ли ему могло бы быть известно, что генеральный штаб, тщательно конспирируя свои связи, всю войну держал двух своих агентов в Японии и одного в Китае. В самом начале войны в безотчетное распоряжение этим трем были переданы 52 тысячи рублей на организацию агентурной сети. Что удалось им сделать и удалось ли — неизвестно. Документов не сохранилось. Покидая штаб, Ухач-Огорович еще раз напомнил командующему про Рябова. Непременно проинструктировать и послать. Полковнику затея эта представлялась безумием, и он, насколько мог, включил свои бесшумные тормозящие устройства. Через неделю, однако, командующий вызвал его. — Что вы тянете, полковник? Не понимаю! Дайте ему задание попроще. Важно, чтобы этот солдат побывал на той стороне. Знаете, что сказал генерал? «Мы сделаем из него героя». И он прав — это нужно для морального духа войск. Через неделю Василий Рябов, не знающий ни слова по-китайски и обладающий лишь даром мимикрии, был направлен в японский тыл. Вместе с ним шел Фан — тот самый молодой китаец, которого прапорщик видел в свой первый день. Проводить их через посты боевого охранения поручено было вахмистру. — Все в порядке? — Так точно, господин полковник, — сказать это можно было по-разному. Вахмистр произнес это мрачно. — Ничего. Не грусти, вахмистр. Вернется Василий. И, хотя полковник постарался сказать это бодро, чувствовалось, что и сам он не очень этому верит. После отъезда Ухач-Огоровича прошел слух, будто полковника переводят в ставку. То ли в силу ожидаемой перемены, то ли из-за каких-то других обстоятельств прапорщик нашел полковника как бы отключенным от того, что происходило вокруг. Таким прапорщик видел его только в день своего приезда. Может, поэтому он не решился коснуться причины своего прихода сразу. — Через вас, кажется, полковник Самойлов передавал мне поклон? — Полковник говорил, не поворачиваясь к нему, глядя в окно, за которым моросил унылый маньчжурский дождь. — Знаете, что мы с ним в Болгарии делали? Нет? Как ни странно, мы оказались там благодаря японцам. Их офицеры прибыли туда, дабы негласным образом изучать опыт нашей войны с турками. Больше всего их интересовали обстоятельства, в которых русская армия терпела неудачи. Ну а нам нужно было знать, что интересует их. Некоторые мои коллеги допускали возможность войны с Японией. Правда, когда наш посланник в Токио Извольский сообщал, что Япония готовится к войне, в Петербурге от него отмахивались... То, что говорил полковник, было мыслями вслух и не предполагало никаких комментариев прапорщика. Поэтому, когда он позволил себе заговорить, полковник взглянул на него с некоторым недоумением, словно только сейчас заметил присутствие молодого человека. — Конечно, он не берется судить, заметил прапорщик, но последнее время многие говорят об измене... — Измене? — полковник скривился болезненно. —Вы действительно верите этим утешительным сказкам?! — Но, господин полковник, вы же не станете отрицать — гаубицы взрываются... — Гаубицы? Стодвадцатимиллиметровые, крупповские? Еще бы не знать! Взрываются. Артиллеристы, приписанные к гаубицам, числились в должности самоубийц. Орудия взрывались в среднем после 300—500 выстрелов, но могли взорваться и на первом и на сотом. Когда раздавалась команда «пли!» и заряжающий дергал за шнур, никто из расчета не знал, что за этим последует — выстрел или взрыв. — К сожалению, ни измена, ни японцы здесь ни при чем. — В голосе полковника послышалась горечь. — Капсюли для снарядов изготовляются у нас, под Петербургом. При загрязнении гремучей ртути чувствительность ее к толчкам возрастает многократно. Так вот, добиться нужной чистоты мы не можем или не умеем, хотя во всем мире это делают без труда. Конечно, кричать «измена!» куда легче! А о «диверсии» на Сибирской железной дороге вы тоже, наверное, понаслышаны? Еще бы, зимой 1904 года об этом говорили все. Сибирская железная дорога, единственная, связывавшая Россию с фронтом, бездействовала целый месяц. Но и здесь японцы, диверсия и измена были ни при чем. На станции Тайшет у депо столкнулись два паровоза, загородив доступ к складу угля. Конечно, уголь можно было бы погрузить на паровозы корзинами. Но раньше так делать не приходилось, и страх перед новым оказался сильнее всего. Начальство распорядилось охладить паровозы. Стоял сорокаградусный мороз. Охлажденные паровозы, находившиеся на путях, вышли из строя. Другие составы, бывшие на соседних и дальних станциях, вынуждены были тоже остановиться и тоже охладить паровозы. Через несколько суток движение было парализовано на всей дороге. Было заморожено около семидесяти паровозов, на станциях и перегонах скопились сотни эшелонов с амуницией, снарядами и войсками. — Знаете, прапорщик, чем мы заплатили за «диверсию», которую устроили сами себе? Поражением под Мукденом! Ни больше и ни меньше! Армия недополучила двести воинских эшелонов — полтора корпуса, которые могли бы изменить весь ход сражения. Русская армия изведала позор неудачи, тысячи убитых, десятки тысяч раненых — и все это только потому, что на станции Тайшет два машиниста — пьяницы, а начальник — болван. Однако признать за собой такое стыдно. Кричать же об измене предпочтительнее, поскольку позволяет нам продолжать быть о себе хорошего мнения! Полковник отошел от окна и наконец обернулся. — Я, кажется, наговорил вам всего. — Он сделал попытку улыбнуться. — Думаю, больше мы не увидимся. Меня переводят в ставку. На столе поверх бумаг лежал только что вскрытый полковником синий штабной конверт. Он не стал говорить прапорщику, что было в нем. Узнает в свое время. Из ставки сообщали, что Чембарского пехотного полка рядовой Василий Рябов был схвачен японцами, предан суду и расстрелян. ...А ведь добрый и верный китаец Фан так торопил Рябова возвращаться — Домой! Домой! — И махал рукой в сторону севера. Шел шестой день их пребывания в тылу японских войск. До сих пор все обходилось. Они побывали даже в одном военном лагере, что оказалось не так просто. Рябов ничего не записывал, полагаясь на память, да и в грамоте силен не был. Бывает на какое-то время опасность обретает вдруг для некоторых необъяснимую притягательную силу. И кажется, мало уже ходить по краю, нужно заглянуть в саму бездну, а то и побалансировать, покачаться над ней. «Это смерть зовет его», — говорят о таких старые люди. Каждый японец на их пути мог оказаться первой ступенькой той короткой лесенки, что ведет к взводу, расстреливающему на рассвете. Но Рябова словно неумолимой силой влекло навстречу риску. Заметив на привокзальной площади офицера с саквояжем, он бросился к нему, знаками давая понять, что готов донести багаж. Японец согласился хмуро. Фан семенил рядом, перехватывая время от времени ручку саквояжа. При виде офицера часовой у ворот дернулся, беря карабин на караул. Они оказались в расположении какой-то воинской части, прошли мимо палаток и нескольких фанз, стоявших с края. Ничего не изменилось, ничего не произошло, но почему-то все стало походить на дурной сон. Так стало казаться Фану. Офицер проявил неожиданную щедрость, не потеряв при этом своего хмурого вида. Когда же, поплутав сколько нужно, чтобы осмотреться, они направлялись к воротам, слева увидели десятка два кули, которые сгружали ящики с армейских обозных телег. Пройти бы мимо, но снова Рябов пошел навстречу риску. Дернув Фана за рукав, он пристроился за последним и взвалил на себя очередной ящик. Фан, идя следом, сделал то же. Они пошли по двум доскам, настланным на земле, и почему-то все стало как во сне, который неизбежно должен был обернуться кошмаром. Японец в желтых крагах, стоявший под навесом, руководил разгрузкой. И на какой-то миг показалось, что все это уже было — и этот навес, и этот японец. Поставив ящик, Рябов замешкался почему-то. Что произошло дальше, Фан не понял. Когда он обернулся на крики, Рябов, неестественно пригнувшись, бежал к воротам. Японец закричал ему вслед пронзительным голосом. Фан метнулся за штабеля и оттуда видел, как солдаты, выскочившие откуда-то сбоку, сбили Рябова с ног. Кули стали шуметь: — Он был не один! С ним был другой! Где он? Фан еще глубже забился в какую-то щель и замер. Через несколько дней на передовой японец с белым флагом вручил русскому офицеру пакет, адресованный генералу Куропаткину. Это было письмо от японского командующего. Русский солдат Василий Рябов, сообщал командующий, был задержан на территории японской воинской части и в соответствии с законами военного времени был предан полевому суду и расстрелян. Японский командующий поражен храбростью этого солдата, мужественно принявшего смерть. Он сообщает о происшедшем генералу Куропаткину и выражает свое восхищение. 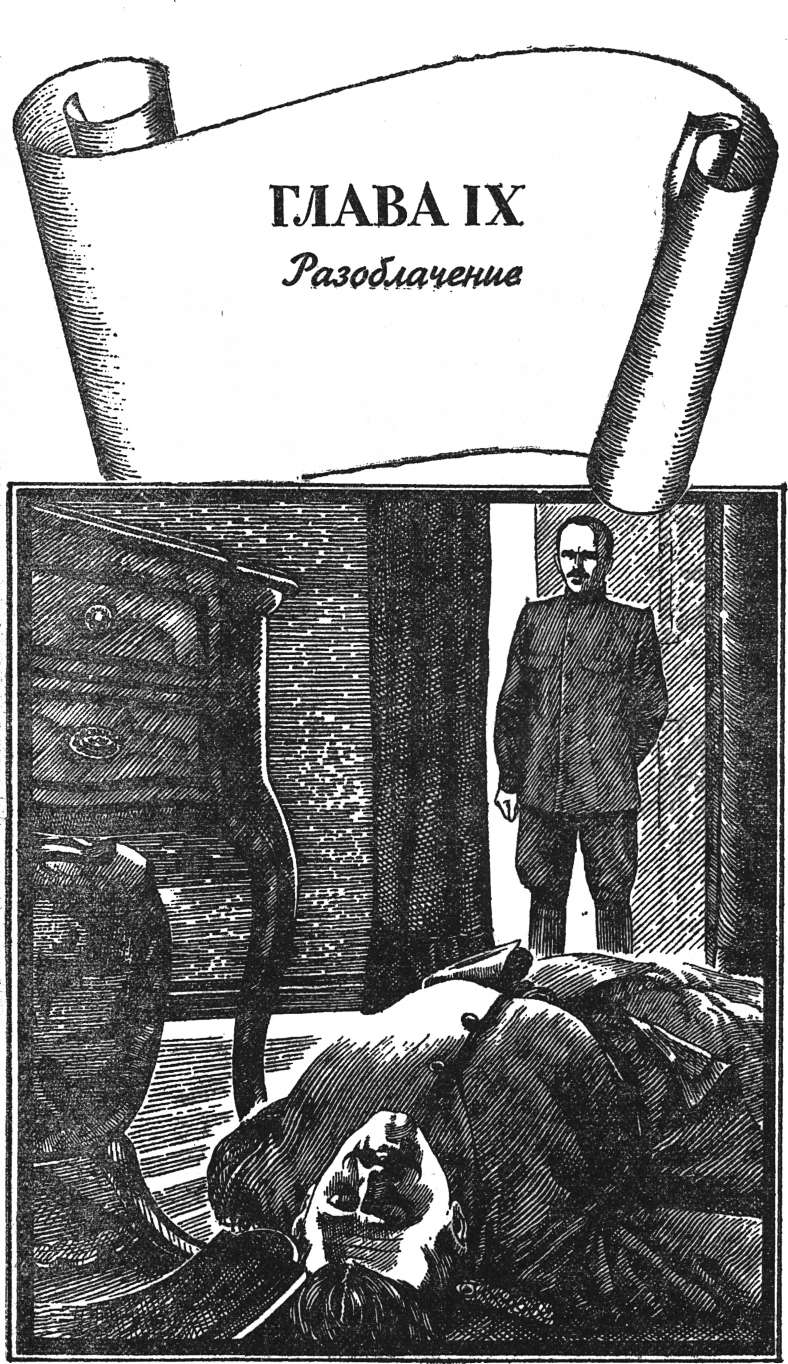 Первая мировая война была войной империалистической, войной за передел колоний. Колониями владели Англия, Германия, Франция. Но Россия, такое же империалистическое государство, как и другие, входила в это переплетение экономических, военных и политических интересов. Передел мира, писал В. И. Ленин, «не мог на основании капитализма произойти иначе, как ценою всемирной войны»*. Но накануне войны Россия была уже чревата революцией. Вот почему то, что делали русские военные патриоты-разведчики, заносилось в архив истории уже не только по ведомству царской России. На их дела в той или иной мере падал отблеск приближавшейся революции. Подвиг разведчика Колаковского, разоблачившего германского агента Мясоедова, ждет еще подробного и скрупулезного исследования военных историков. Когда эта работа будет проделана, версия, изложенная нами, обретет новые детали, а возможно, иной ракурс. Вот почему на том, что рассказано на этих страницах, рано ставить точку. * * * Решетки на окнах были легки, шуточны, однако, когда арестант потрогал их, воспользовавшись отлучкою немца, к нему приставленного, убедился — не выломать, сделаны, что называется, от души, не на один день... — Еще раз расскажите подробно, как вы попали в плен? — спросил офицер генерального штаба германской армии, чиновник бюро разведки Бауэрмайстер, говоривший по-русски свободно, без акцента (чему, впрочем, удивляться — до мая 1914 года жил в Петербурге как русский подданный, подвизался в сфере страхования имущества). — Вы же знаете... Ваши солдаты схватили меня контуженным; патронов к нагану не было, отстреливаться нечем... — Бедненький русский офицер... Нечем отстреливаться... Японцы в таких случаях кончают жизнь кинжалом. — Кинжалы для русских офицеров поставляли до войны ваши заводы, клинки слишком быстро ржавели и крошились; не харакири ими делать, а старикам пятки щекотать... — Стоит ли так злобно отзываться о нашей военной индустрии? — Стоит. Это для вас она военная, для нас — изменническая. — Изволите по-прежнему дерзить? — Нет. Просто называю кошку кошкой... — Так ведь это и есть высшая форма дерзости! — В моем положении она-то и есть спасение... — Ваше имя? — Вы же знаете... Бауэрмайстер по-прежнему словно бы не слышал собеседника, сказал еще раз, бесстрастно, будто со стороны: — Имя? — Яков. Бауэрмайстер повторил удовлетворенно, словно бы любуясь чем-то, одному ему видным: — Яков... Прекрасно... Яков... Почти Якоб, очень близко к прусскому, не находите? — Нахожу, отчего ж нет? Русы и прусы — одного рода племя. — Ну, так-то резко б не надо... — Не привык таить мнение... — Придется и этому выучиться... Итак, Яков... Имя отца, пожалуйста. — Вы знаете... — Пожалуйста, имя отца? — Павел. — Павел. Почти Пауль. А может, и впрямь, русы и прусы? — улыбнулся офицер генерального штаба. — И наконец, фамилия? — Колаковский. — Что-то есть в звучании польское, не находите? — И отец и дед мой православные, католиком никто в роду не был. — Не верите в теорию крови? — Не верю. — Только «дух определяет личность»? — Только. — Ну а как же тогда прикажете понять, что вы, православный, русский... Кстати, какой полк? — Перед вами лежат мои данные, господин Бауэрмайстер. — Вот я их и намерен перепроверить. — Тогда я отказываюсь говорить с вами. Я — офицер, и слово свое почитаю абсолютным... Коли я сказал о своем согласии, извольте мне верить, а не устраивать пустые перепроверки... Мы так в гимназии баловались, в шестом еще классе, слабеньких духом пугали, начитавшись «Бесов»... — Вы стали значительно более говорливым, после того, как мы подкормили вас в лазарете... Колаковский откинулся, словно от удара: — Вы своему начальству доложите: отныне я вообще говорить с вами перестаю и предложение свое беру обратно. — Поздно, Яков Павлович. Ваше согласие служить германской разведке уже зафиксировано на фонографе, так что отказ ваш невозможен. Очень сожалею. В случае отказа мы ошельмуем вас в глазах офицеров двадцать третьего пехотного Низовского полка... Хотите послушать запись нашей беседы, когда вы в первый раз изволили дать трещинку? А я, словно капля, в трещинку юрк, юрк и затаился... И ждал, пока мороз ударит... Лед камень рвет, словно порох, Яков Павлович... — Ну и какой же вам смысл меня шельмовать? Каков прок? — спросил Колаковский, хрустнув пальцами так, что гримаса свела лицо немца. — Прок таков, чтоб другим было неповадно финтить! — отрезал Бауэрмайстер. Колаковский поднялся из-за стола, попросил: — Встаньте, пожалуйста. — Это еще зачем? — Я ударю вас по лицу, дабы вы имели основание вызвать меня на дуэль. Бауэрмайстер вздохнул, закрыл глаза, долго сидел недвижно, потом откашлялся: — Хоть я и могу вас швырнуть в карцер, ибо вы наш пленник, но тем не менее прошу принять мои извинения, Яков Павлович... Простите, милый, но в разведке проверка — вещь необходимая, мы ж вам — коли передадим петербургскую агентуру — вручим судьбы людей, наших друзей, так что простите, бога ради, Яков Павлович, и не держите на меня зла, коли можете... Колаковский опустился на стул, снова хрустнул пальцами: — Разве ж допустимо так, право... Тем более я пленник... Ну да ладно, я удовлетворен вашим ответом вполне, лжи нет в нем... Бауэрмайстер чуть поклонился, лицо его снова дрогнуло: — А не слишком ли вы меня легко простили? Нет ли в этом простолюдинства? Истинный дворянин не может быть столь снисходителен к оскорблению. Колаковский перегнулся через стол и резко ударил офицера. Тот упал с кресла, ударившись головою об угол стола. Колаковский поднялся, вышел в соседнюю комнату, крикнул дежурным: — Поднимите вашего командира, он хлипкий... Никто, однако, не ответил ему. В приемной Бауэрмайстера тоже было пусто. Колаковский вышел в соседнюю комнату — никого; в третьей — тоже. Он толкнул ногою тяжелую дверь, что вела на улицу, — подалась легко. Колаковский хмыкнул, вернулся назад, тронул мыском Бауэрмайстера, лицо его дрогнуло, сказал презрительно: — Ладно, поиграли, и будет. Бежать смысла нет, схватите. Или — или. Коли у вас нет нужды начать со мною серьезное дело — верните в лагерь, надоело мне подлаживаться под ваши дурацкие проверки. Отчего я согласился работать на вас, хотите понять? Оттого, что в России сейчас правят дурни, которые ведут империю к краху. Поднимать ее из руин предстоит Европе; ближе всех к нашим границам — вы; следовательно, вы-то именно и станете работать с нами; так не лучше ль договориться о форме сотрудничества, при котором насильник и мерзавец — то есть вы — станет выполнять по отношению ко мне те условия, которые мы обговорим заранее, пока вы во мне более заинтересованы, чем я в вас? ...После семидесяти четырех часов утомительнейших Допросов состоялся обед в особняке генерального штаба. Генерал, принимавший Колаковского и Бауэрмайстера, заключил трехчасовую трапезу словами: — Мы поручаем вам в Петербурге организацию диверсии, Якоб Паулевич, мы подвигаем вас на террор — именно вы должны будете застрелить великого князя, и, наконец, мы вам доверяем ценнейшее наше приобретение жизнь и честь друга, Якоб Паулевич; имя друга — Мясоедов; звание — полковник жандармерии; кличка в нашей разведке — «Шварц», оклад — сорок тысяч марок в год. ...Через девятнадцать дней, поздней ночью, в квартире подполковника генерального штаба Ивантеева, что на Мойке, задребезжал звонок. Сонная прислуга не разобрала имени, побрела в покои барина. Тот спал отдельно от супруги, в своем кабинете, возле телефонного аппарата. — Ктой-то к вам, Леонид Фомич, — сказала женщина, а кто — не пойму. Ивантеев лежал на диване одетым, словно бы ожидая этого прихода. Посмотрел на часы; стрелки показывали три часа утра. — Ложитесь спать, Григорьевна, — сказал он, — я сам гостя впущу. Света в прихожей Ивантеев не зажигал; когда вошел гость — обнял его, прижал к себе, ощущая чужой запах шинели, провел в кабинет. Колаковский — а это был он (никакой не офицер пехоты, но сотрудник военной контршпионской службы) — чуть не обвалился в кресло и сказал, не разжимая губ: — Вы были правы... Все эти годы правы... Будь мы все прокляты... Мясоедов действительно их агент. Ивантеев протянул Колаковскому папироску, поднес обжигающе близкий огонь спички, спросил: — Пароль и отзыв к нему вам дали? — Да. — Явку? — Тоже. — Это в протоколе допроса, который с вас станут потом снимать, не очень-то открывайте, ясно? — Ясно. — Сейчас спать, утром — за рапорт на мое имя, составим вместе, а потом — вплоть до ареста, если бог даст, мы сможем его на этот раз взять, — из дома моего не выходить, вас шлепнут незамедлительно... Основания для такого рода опасений были весьма серьезны: агент разведки германского генерального штаба, полковник жандармерии Мясоедов был одним из начальников контршпионского ведомства России. О его предательстве говорили не первый год; публично его обвинил в германофильстве член государственной думы октябрист Гучков; в популярнейшем «Новом времени» один из наиболее влиятельных журналистов России, Суворин, прямо объявил Мясоедова человеком, стоящим на службе иностранных интересов. Казалось, такого рода обвинения несмываемы. Увы, нет. Об этих обвинениях тем не менее говорили в обществе шепотом, ибо генезис страха, вдавленный в головы подданных, предписывал и на сей раз: «Молчи и будь подальше!» И не зря страх шевелился в сердцах людей: военный министр Сухомлинов — любимец царя; Мясоедов любимец Сухомлинова. И. все тут! Логическое построение иного порядка, кроме как: «Молчи! Т-ссс!» — попросту невозможно было в те годы. Подполковник Ивантеев, несмотря на царивший страх, в течение многих месяцев собирал по крупицам документы, неопровержимо свидетельствовавшие об измене Мясоедова. Он при этом понимал, что без главной улики, без явок, паролей, без связей, без того, чтобы германские разведчики не назвали своего агента, — он не сможет в обход министра Сухомлинова, а точнее говоря, в обход царя, — арестовать жандарма. И поэтому, когда началась война, русские военные разведчики, стоявшие на патриотических позициях, отправили в действующую армию ряд наиболее талантливых сотрудников для того, чтобы внедриться в германскую шпионскую службу и получить улики против сановных изменников, засевших в Петербурге под защитой скипетра российского самодержца и его августейшей подруги... Колаковский такую улику получил, остальные его коллеги погибли «при исполнении долга»... ...Назавтра, минуя Сухомлинова, втайне от него, был отдан приказ: арестовать полковника жандармерии Мясоедова как шпиона, выдавшего Берлину, и Вене секретнейшие данные России... Особенно одно «дело» Мясоедова было вопиющим по своему коварству. Именно ведь потому, что Сухомлинов смог назначить Мясоедова на столь секретный пост в военном министерстве, произошло предательство века: в 1913 году, как раз в ту пору, когда генеральные штабы Германии и Австро-Венгрии приступили к созданию концепции предстоящей войны, ушел из жизни самый загадочный лазутчик XX века, начальник разведслужбы Австрии полковник Редль, работавший на русский генштаб в течение десяти лет. Однако «провал» Редля объяснялся как угодно, во только не как следствие германского шпионажа в России, то есть не как результат деятельности Мясоедова. Предоставим слово английскому исследователю Роуану. Вот что он писал о Редле: «До 1905 года полковник был директором австро-венгерской разведки, сокращенно «КС», и успешная работа его отдела снискала ему полное признание руководителей армии. Он разоблачил и задержал нескольких из наиболее ловких шпионов Европейского континента; он сумел разузнать немало тщательно охраняемых тайн соседних держав; говорили, что он не знал неудач. Но больше половины своего времени Редль в действительности отдавал службе на пользу России». Английский исследователь рассказывает далее, что, если возникал интерес к какому-нибудь посетителю, его могли сфотографировать «анфас и в профиль, а также снять пальцевой отпечаток, причем каждое слово, сказанное им, записывалось на специальной пластинке — и все это без ведома посетителя. Где бы этот посетитель ни сидел, на него всегда можно было направить две фотокамеры в наивыгоднейшем освещении. Во время беседы с посетителем вдруг начинал звонить телефон — это дежурный офицер сам «вызывал» себя к телефону, незаметно нажимая ногой под столом кнопку электрического звонка. В течение этого мнимого разговора офицер знаком указывал на закрытый портсигар, лежащий на столе, приглашая гостя взять папиросу. Металлическая крышка портсигара была соответствующим образом обработана и сохраняла отпечатки пальцев того, кто к ней прикасался. Если гость был некурящий, офицер по телефону «вызывал» себя из комнаты; извинившись, он второпях забирал с собой портфель. Под ним оставалась папка, помеченная надписью «секретно». И мало кто из приходивших в центральное бюро «КС» отказывал себе в удовольствии заглянуть в папку с такой заманчивой надписью. Разумеется, поверхность этой папки также была обработана. А если посетитель не поддавался искушению, применялась новая хитрость, и так далее, пока какая-нибудь из них не удавалась. И все это время скрытый прибор запечатлевал каждый звук на граммофонной пластинке, находившейся в смежной комнате. В 1905 году Редль переехал в Прагу в качестве начальника штаба крупнейшей армии, передав свой пост талантливому разведчику капитану Ронге. Именно он, капитан Ронге, решил перещеголять Редля. Он внедрил, как утверждает Роуан, новый вид слежки — тотальную тайную почтовую цензуру. «Подлинные мотивы этого нововведения были известны только трем лицам — Ронге, его начальнику и чиновнику, которого он поставил во главе венского «черного кабинета». Всему остальному штату сказали, что это делается для преследования таможенных жуликов, и обязали хранить сообщенное в тайне. Благодаря такой уловке работники бюро цензуры обращали особенное внимание на письма, получаемые из пограничных пунктов. 2 марта 1913 года в «черном кабинете» (то есть в отделе контршпионской службы, занятом перлюстрацией писем, полученных из-за границы) были вскрыты два конверта. Оба были адресованы: «Опера, Балл, 13, до востребования, главный почтамт, Вена». Судя по почтовым штемпелям, они прибыли из Эйдкунена в Восточной Пруссии, пункта на русско-германской границе. В одном конверте лежали кредитки на сумму 6 тысяч австрийских крон, в другом — на 8 тысяч. Ни в том, ни в другом не было сопроводительного письма, и это, естественно, показалось подозрительным. Вдобавок Эйдкунен был маленькой станцией на русско-германской границе, хорошо известной шпионам всех наций. «КС» вернула оба письма в отдел писем «до востребования» и решила посмотреть, кто явится за ними. Позади венского главного почтамта на Флейшмаркте (Мясном рынке) приютился небольшой полицейский участок. Ронге распорядился соединить этот участок специальным телефонным проводом с почтовым отделом «до востребования». Дежурному чиновнику достаточно было нажать кнопку, чтобы в одной из комнат полицейского участка раздался звонок; он должен был сделать это, как только придут за обоими письмами, и возможно дольше задерживать при этом выдачу их. В полицейском участке постоянно находились наготове два сыщика, которые должны были поспешить по звонку на почту и выяснить, кто явился за письмами. Прошла неделя, пишет Роуан, все было «на взводе», но звонка не было. Прошел март, апрель, но никто не являлся за письмами; 14 тысяч крон оставались невостребованными. Но на 83-й день ожидания, в субботу вечером 24 мая, раздался звонок с почты. Одного из сыщиков не было в этот момент в комнате; другой мыл руки. Спустя две минуты, однако, они уже мчались на почту. Почтовый чиновник сказал, что они опоздали, что получатель только что вышел «налево». Выбежав на улицу, они увидели удалявшееся такси. И ничего более. Сыщики простояли на месте двадцать минут и чувствовали себя провинившимися школьниками; им очень не хотелось сообщать о своей неудаче и выслушивать упреки начальства. Но, по иронии судьбы, как раз неудача сыщиков и их бестолковое стояние на месте перед почтой дали превосходную нить для следствия. Возвратилось такси, на котором уехал получатель двух злополучных писем. Сыщики немедленно расспросили шофера и установили, что его недавний пассажир направился в кафе «Кайзергоф». — Поедем и мы туда, — сказал один из сыщиков. По дороге они тщательно обследовали сиденье в автомобиле и нашли футляр от перочинного ножа из серой замши. В эту пору дня в кафе «Кайзергоф» было почти пусто; пассажира не оказалось. По-видимому, он пересел на другой автомобиль, чтобы запутать след. Неподалеку была стоянка машин, и здесь сыщики узнали, что какой-то мужчина за полчаса до этого взял автомобиль и приказал ехать к отелю «Кломзер». Явившись в отель, они спросили у портье, приезжал ли кто-нибудь в такси за последние полчаса. Да, приезжало несколько человек; в номер 4-й, в номер 11-й, а также в 21-й и 1-й. В 1-м номере находился полковник Редль. Сыщики показали портье футляр от перочинного ножа: — Возьмите и при случае спросите гостей, не потерял ли кто-нибудь из них эту штучку. Портье был рад услужить полиции. Один из сыщиков отошел в сторону и стал читать газету. Хорошо причесанный господин в щегольском штатском костюме спустился по лестнице и отдал свой ключ. Это был «номер 1-й». — Виноват, — сказал портье, — вы случайно не потеряли футляр от перочинного ножа? — О да, — сказал Редль, — конечно, это мой футляр! Благодарю вас. Но тут он заколебался. Где он пользовался перочинным ножом в последний раз? В первом такси, вынимая деньги из конвертов! Он поглядел на портье — тот вешал ключи на место. Неподалеку стоял другой человек, видимо, поглощенный чтением газеты. Редль положил футляр в карман и направился к выходу. Сыщик, читавший газету, кинулся в телефонную будку и потребовал: «1-23-48» — секретный номер штаба политической полиции в Вене. И главным чинам «КС» стало известно, что письма, адресованные «Опера, Балл, 13», были наконец получены адресатом: их получатель использовал два таксомотора, чтобы запутать возможных преследователей, но имел неосторожность потерять футляр от своего перочинного ножа. Установлено, что этот футляр принадлежит их шефу — Альфреду Редлю. Офицеры поспешили на почту за справками. В отделе венского почтамта «до востребования» все получающие письма должны были заполнять краткий формуляр: Род вложения: Адрес на пакете: Укажите (по возможности), откуда ожидаете. Контрразведчики увезли с собой бланк, заполненный человеком, получавшим письма на адрес «Опера, Балл, 13». С потайной полки в своем кабинете достали небольшой, изящно переплетенный томик. Это был секретный документ, написанный самим Редлем, — он считал его слишком конфиденциальным, чтобы отдавать в перепечатку. Был сличен почтовый формуляр с рукописью. Сомнений быть не могло — это почерк Редля. А в отеле тем временем Редля ждал доктор юриспруденции Виктор Поллак, пригласивший старого друга отобедать в ресторане «Ридгоф». Полковник согласился, но пошел переодеться во фрачную пару. Поллак был одним из виднейших юристов Австрии, он часто сотрудничал с Редлем в судебных процессах по шпионским делам. Сыщик подслушал их разговор, протелефонировал своему начальству, а затем отправился в «Ридгоф» предупредить директора ресторана. Когда Поллак и Редль сели за стол в отдельном кабинете, им прислуживал в качестве официанта агент тайной полиции. Но услышал он мало, ибо Редль был угрюм и почти ни о чем не говорил со своим приятелем. Во время ужина Поллак, покинув на минуту кабинет, подошел к телефону и, к изумлению официанта-сыщика, вызвал к аппарату начальника венской полиции, отвечавшего за слежку в операции против Редля. — Друг мой, вы поздно работаете! — сказал Поллак. — Я жду данных по одному важному делу, — сказал тот и стал слушать Поллака, который начал рассказывать ему о каких-то «затруднениях Редля». Полковник действительно весь вечер казался не в духе, был чем-то взволнован, признался Поллаку в нравственных терзаниях, дурных поступках, но, конечно, ни слова не сказал о шпионаже или измене. — Вероятно, переутомление, — закончил Поллак свой рассказ. — Словом, он просит меня устроить так чтобы он мог немедленно уехать обратно в Прагу с наибольшими удобствами. Не можете ли вы оказать ему содействие? — Успокойте полковника, — ответил шеф полиции, — пусть он придет ко мне завтра утром. Я сделаю для него все возможное. Поллак вернулся в отдельный кабинет. — Пойдемте, — сказал он Редлю в присутствии «официанта». — Я уверен, что нам удастся все устроить. Поллак оставил официанта-сыщика в растерянности и недоумении. Адвокат телефонировал начальнику полиции, а потом сказал шпиону и предателю, что ему кое-что «устроят». В 11 часов 30 минут Редль попрощался с Поллаком в холле отеля и вернулся в свой отель. В полночь четыре офицера в полной форме вошли к нему. Редль в это время сидел за столом и писал. — Я знаю, зачем вы пришли, — сказал он. — Я пишу прощальные письма. — Мы должны узнать масштабы и продолжительность вашей... деятельности. — Все, что вы хотите знать, отыщется в моем доме в Праге, — сказал Редль. Потом он попросил револьвер. Офицеры, которым начальник австрийского генерального штаба поручил допросить Редля и обеспечить его немедленную «казнь», отправились в кафе «Централь», заказали кофе и стали в напряженном молчании ждать. В полночь Редля не стало». ...Вот какого уровня разведчика сумели разоблачить в Вене в 1913 году... Полно, в Вене ли?! ...Прежде чем начать анализ версии, высказанной Роуаном, посмотрим, как излагали это же событие австрийские историографы. Один из руководителей венской разведки (по прошествии многих лет после описываемых событий) сообщил, что дело началось не в почтовом отделении на одной из прекрасных улиц Вены, а в Берлине, в кабинете начальника германской разведки полковника Николаи. В апреле 1913 года в Берлин из Вены было «почему-то» (?) возвращено письмо, адресованное «до востребования». В Берлине его, «естественно» (?), вскрыли, прочитали, сфотографировали. Было в письме, по утверждению австрийских юристов, шесть тысяч крон и два шпионских адреса, известных секретным службам Берлина и Вены, — первый в Париже, другой в Женеве. Именно берлинская секретная служба и отослала «сестринской» шпионской организации в Вену загадочное письмо с деньгами и предложила начать слежку за почтой, чтобы выявить получателя. Любопытная деталь. Английский историк об этом факте не упоминал. Отчего? Теперь о других «разночтениях» в деле Редля. «Разночтения» ли? Стоит заметить, что австрийский исследователь был в свое время виднейшим деятелем австрийской разведки. Именно он-то и утверждал, в частности, что в почтамте незнакомца ожидали три сыщика. Почему английский исследователь говорит всего лишь о двух? Куда делся третий? Кто он и откуда? Австрийский исследователь сообщает, что шофер, вернувшийся к сыщикам после того, как они потеряли «объект наблюдения», сообщил, что вез своего пассажира к гостинице «Кломзер». А почему он ничего не сказал им про кафе «Кайзергоф», как утверждает Роуан? Почему австрийский исследователь обошел факт посещения полковником Редлем этого модного шумного кафе, где возможны контакты со всякого рода людьми? Впрочем, словно бы поправляя своего коллегу, другой австрийский исследователь, Урбанский (в прошлом — генерал военной разведки в Вене), вспоминает кафе «Кайзергоф» и выдвигает версию, что, мол, сыщики расспросили мойщика такси возле кафе, и вот именно тот человек сказал о господине в штатском, который уехал на другом «моторе» к гостинице «Кломзер». Как мойщик мог слышать то, что сказал пассажир шоферу? Можно ли слышать вне машины то, что говорят внутри, да еще при включенном моторе? Сыщики, по версии австрийского исследователя, пришли в отель, и сразу же, безо всяких «экивоков», задали вопрос портье: — Кто из постояльцев прибыл сюда на таксомоторе? — Полковник Редль, — сразу ответил тот. — Я только что передал ему ключи. Зачем же нужно было играть в «футлярчик»? Эта игра нужна была для того, чтобы все поверили: не прояви Редль легкомыслия, будь он постоянно мобилизован, никогда бы ему не грозила беда. Короче: все должны знать — в провале виноват сам Редль и никто иной. Однако при тщательном исследовании этого дела, возникают вопросы, ответы на которые пришло время дать. Итак: во-первых. Как явствует из документов, опубликованных в литературе, Редль начал сотрудничать с русской разведкой начиная с 1900 года. Все это время (а не с приходом преемника Редля капитана Ронге) «черный кабинет» действовал безотказно, и письма, приходящие из «подозрительных» районов, тщательно перлюстрировались чинами австро-венгерской контрразведки. Но отчего только в 1913 году, то есть накануне войны, венская контршпионская служба установила постоянный пункт слежения за почтовым отделением не по собственной инициативе, а с подачи Берлина? Отчего восемьдесят три дня полицейская служба столь тщательно караулила неведомого корреспондента? Да потому, что австрийцам нужна была неопровержимая улика против Редля, добытая не где-нибудь, а в Вене и не как-нибудь, а путем личного наблюдения, дабы ни у кого, никогда, ни при каких условиях не возникло и мысли, что сигнал о работе Редля с русскими поступил из Петербурга от Мясоедова. Во-вторых, описанный метод слежки за Редлем производит в высшей мере странное впечатление. Ведь шофер такси опознал того, кто ехал с ним в кафе! И второй шофер опознал! И портье отеля указал на того, кто только что приехал из кафе. Круг-то замкнулся — чего не хватало? В-третьих, кому нужно было ждать сигнала сыщика о начале слежки за Редлем после того, как ему отдали футлярчик? Почему лишь после этого поехали на почту, чтобы затребовать формуляр для выдачи получения, заполненный полковником? Почему этого не сделали немедленно после того, как сыщики потеряли Редля при его выходе из почты? Зачем было ждать? Если бы контрразведка не знала заранее, кто придет за деньгами, ее люди обязаны были бы поспешить на почту, они бы обязаны были немедленно запустить формуляр, заполненный получателем, в графологическую, почерковую и прочие экспертизы. Никто, однако, не торопился; суетились бедные сыщики, не посвященные в суть операции; руководители беспокоились об одном лишь — об убедительности мотивации при задержании шпиона... В-четвертых, как объяснить, отчего шофер такси, увезший Редля, столь заботливо вернулся обратно, чтобы забрать незадачливых сыщиков, потерявших объект наблюдения, да еще подвезти их ко второму шоферу такси, который — о чудеса! — подробно рассказал, что он доставил интересующего пассажира в отель «Кломзер»? Ответ ясен: за Редлем уже не первый день следила военная контрразведка, а сыщики, служившие в венской политической полиции, были лишь прикрытием для тах, кто знал (получивши сведения из Петербурга), что Редль работает с русскими. Можно допустить, что и шоферы таксомоторов были включены в операцию. История с футляром перочинного ножичка на самом деле является легендой, ибо сам по себе факт обнаружения замшевой «фитюльки» не является уликой. Да и вообще, в деле Редля улик нет. Все улики были обнаружены после самоубийства Редля. А кто может подтвердить факт самоубийства? Его слова о том, что он, мол, знает, зачем к нему пришли, приведены теми офицерами генерального штаба, которые отвечали за то, чтобы Редль перестал жить. Каким образом — выстрелом ли в висок или же в спину — особого значения не имеет. ...Эпизод с Редлем — лишь одна из страничек биографии жандармского полковника Мясоедова, специализировавшегося на предательстве России иноземцам... ...Данные, добытые Колаковским, позволили честным русским офицерам провести стремительную комбинацию: Мясоедов был арестован без санкции военного министра и немедленно увезен в Варшавскую крепость — подальше от всесильного заступника. Однако, прежде чем рассказать о том, как закончилась судьба германского супершпиона, разоблаченного русскими военными контрразведчиками, необходимо более подробно остановиться на личности министра обороны России генерала Сухомлинова. Без этого трудно понять, каким образом Мясоедов был допущен в святая святых царского кабинета и к тем сверхсекретным данным, которые вправе были знать лишь Николай, премьер и министры обороны, иностранных и внутренних дел, промышленности. Впервые о Сухомлинове услыхали в 1877 году, во время освобождения Болгарии, — молодой подполковник генерального штаба получил солдатского «Георгия», ибо проявил отвагу, ворвавшись с четырьмя казаками в турецкую крепость; там он дерзко потребовал капитуляции и привез в штаб Дунайской армии рескрипт, подписанный турками. Когда генералы принялись сочинять депешу о происшедшем, то со свойственным, увы, бюрократизмом они ее переписывали чуть что не десять раз, и все никак не могли понять, верно ли расставлены акценты, достаточно ли часто упомянуто имя государя, сколько раз говорится о великих князьях, упомянуто ли здоровье ее императорского величества государыни-императрицы. Сухомлинов, наблюдая эту штабную панику, предложил генералам отдохнуть за чашкой чая (он был тогда скромен, ловок, изящен), и те, понятно, с радостью приняли предложение молодого подполковника (кстати, про него в депеше генералы ничего не писали, хотя он-то и был истинным героем дня). Когда штабные начали пить чай, Сухомлинов сел к столу и в минуту написал депешу. Корпусной командир прочитал текст и, подписавши, сказал: — Очень верно понято все то, что государю будет приятно прочесть. Так впервые Сухомлинов угодил вкусу Царского Села. После этого он незаметно ретировался с театра военных действий, вернулся в северную столицу, стал правителем дел в Академии генерального штаба, затем руководил офицерской кавалерийской школой, но при этом суетливо ощущал, что жизнь проходит сквозь пальцы, словно песок, и решил он тогда, что выделиться среди других военачальников, подняться и войти в сферы можно лишь растворением в августейшем мнении, с одной стороны, и скоморошеской приметности — с другой. И Сухомлинов принялся сочинять рассказы, укрывшись за звучным псевдонимом Остапа Бондаренки. Брошюрки Бондаренки издавались большими тиражами, они стали известны в России, их читали многие, а поскольку литература социальна и находит свой «сектор» в обществе, то Бондаренку особенно отметили бывшие, то есть те, кто сформировался во времена Николая Палкина, кто скорбел по спокойному, неторопливому времени, по царству бар и урокам шпицрутенами, кто боялся слова и чтил казарму; та, словом, которым новые времена, стремительное развитие науки, промышленности, культуры России были чужды и страшны. Именно этому процессу всячески противилась царская бюрократия и поддерживавшие ее черносотенцы. Поэтому для них появление разудалого «Остапа» — а они-то знали, что это полковник генштаба Сухомлинов, — было словно бальзам на раны, ибо прогрессивные русские военачальники перед тем, как их убирали в отставку, бесстрашно продолжали повторять: военное дело как дитя научно-технического прогресса переживает эру исканий; на вооружении армий Запада уже внедрена скорострельная быстроподвижная артиллерия; бездымный порох, магазинное ружье! Все большее количество ученых Запада думает, как подчинить воздух армии; а землю — моторам! А Остап Бондаренко в каждой своей брошюрке резво издевался над этими «профессорами от армии». Знания он называл «кабинетно-табуретными», книжки русских ученых — «книжонками»; а одну из своих брошюр назвал прямо, без обиняков — «Не всегда ученье свет». Самое страшное для Остапа — инициатива, знания, любое новшество. Едва кто-то из военных исследователей заявил, что эра кавалерийских атак ушла в прошлое, как Остап называет это «предательством русской старины» и забвением того «святого, чем жива Русь-матушка». Эти брошюры легли на стол «серого кардинала» Победоносцева; тот передал их бывшему воспитаннику — царю Николаю. Понятно, проза Остапа понравилась — ни о чем ведь ином не радеет, кроме как о седой старине! Именно таким образом Остап стал генералом, а затем начальником штаба важнейшего Киевского, пограничного с Австрией, военного округа. Именно там по прошествии всего лишь трех лет после того, как угодливый генерал, он же черносотенный Остап, стал начальником штаба Киевского военного округа, состоялись в 1902 году огромнейшие маневры под Курском. «Южными» были войска Киевского военного округа, «северными» — Московского. «Северные» создали «летучие партизанские отряды». Солдаты одного из летучих отрядов, заброшенные в глубокий тыл «южных», увидели, как среди березовых перелесков в экипаже на мягких дутиках преспокойно ехал вальяжный генерал. И «летуны» ничтоже сумняшеся захватили в плен генерала «вражеской» армии! А оказался этот генерал не кем-нибудь, а начальником штаба Сухомлиновым. Он закричал: — Это что ж такое! Да такого же никто в условиях не оговаривал! Казалось бы, карьера начальника штаба «южных» на этом должна быть закончена. Но нет1 Сухомлинов немедленно принялся за свои спасительные брошюрочки, обрушился на нововведения, зло потешался над «иностранщиной» и властно требовал возврата в старину: «То, что старо, — то истинно; то, что ново, — чужеземно, сиречь не нужно нам». Словно капля бальзама были эти дремучие истины для августейшего семейства и неподвижной, тупой бюрократии — «казенным» людям. А коля так, то стоит ли обращать внимание на общественное мнение?! Какого рожна, где оно в этой державе?! И в Петербурге подписывается указ о назначении Сухомлинова начальником русского генерального штаба! Сухомлинов был вызван из Киева срочной шифрограммой без объяснения причины. Он приехал в Петербург в состоянии нервном; ему хватало причин бояться, ибо последние три года развивался роман стареющего генерала с молоденькой женой помещика Бутовича. Помещик в разводе отказывал. Тогда Сухомлинов стал угрожать рогоносцу заточением в сумасшедший дом; а тот, будучи человеком отнюдь не робкого десятка, возбудил против Сухомлинова судебное дело. И как раз в это время Сухомлинову и его жене начали оказывать всяческую помощь австрийский торговец Альтшиллер и киевский коммерсант Фролов. Они постоянно были рядом с влюбленными, стараясь — всеми правдами и неправдами — отвести от «достойнейшей четы» те «наветы», которые распускают завистники и вообще гадкие люди. Судебные издержки стоили денег, средства Сухомлинова были на исходе, его молодая возлюбленная обожала общество, приемы, выезды. Выручал Альтшиллер — ссужал деньгами постоянно; какую-то толику денег давал сам, но львиную долю ему переводило командование из Вены, ибо он был не кем иным, как главою немецкоговорящей резидентуры на юге России и в Киеве. («Отдавать» деньги Сухомлинову приходилось впоследствии архипросто: он не давал заказы на оружие русским заводам, а размещал их на Западе, там, где заранее производили для Петербурга допотопные, а то и вовсе бракованные пулеметы и револьверы. Вот вам и борец за «российскую самость» противу «западной заразы»!) Видимо, перед отъездом в Петербург между Альтталлером и молодой возлюбленной состоялась беседа — в какой-то мере вербовочная. Видимо, Сухомлинов знал об этом (догадывался — наверняка), поэтому-то был он нервен, прибывши в столицу, ожидал бог знает чего от начальства. Однако же назавтра он был представлен государю императору и получил от того официальное назначение на должность начальника генерального штаба. Через год «Остап» Сухомлинов стал военным министром России. Судебный процесс против него в Киеве еще продолжался, а военный министр Сухомлинов, переселившись в Петербург, устроил прием в своем доме, и гостей принимали три верных друга: Альтшиллер, Мясоедов и князь Андроников. Итак, Альтшиллер, офицер австро-венгерской армии, резидент военной разведки в Киеве, вместе с Сухомлиновым переселился в Петербург. Мясоедов — полковник жандармерии[16], завербованный германской секретной службой в то время, когда он работал на пограничной станции Эйнкунден (именно той, откуда было отправлено в Вену письмо Редлю). Князь Андроников — тесно связанный как с группой Распутина, так и с германскими разведчиками. Кто привел в дом министра Мясоедова — неизвестно. Он появился там, находясь в положении весьма сложном. Подполковник генерального штаба Ивантеев тщетно старался понять истоки этой дружбы. Сколько ни пытался он, — имея тревожные сигналы, переданные ему русскими разведчиками из Берлина о Мясоедове как об агенте немцев, — ни Сухомлинов, ни министр внутренних дел к материалам о полковнике его не подпускали. Косвенные улики так и остались уликами косвенными, во всяком случае, до той поры, пока не началась война и Колаковский не проник в германскую разведку. А имей Ивантеев возможность вовремя получить материалы, заботливо хранимые в досье и на Мясоедова, и на Сухомлинова, сотни тысяч жизней русских солдат можно было бы сохранить от гибели... Обратимся к показаниям директора царской охранки Белецкого. «Из дел, особо интересовавших Сухомлинова, — сообщает Белецкий, — было три: во-первых, урегулирование вопроса о постановке агентуры в войсках; во-вторых, о волнениях в Туркестанском лагере, в коих он обвинял генерала Самсонова, и, в-третьих, полковник Мясоедов. В свое время тот был уволен из корпуса жандармов. В течение ряда лет Мясоедов тщетно пытался, прибегая к высоким связям, вернуться обратно на службу в корпус жандармов, откуда он был уволен, при генерале Курлове распоряжением покойного П. А. Столыпина. Мясоедова я знал еще по своей службе в Ковенской губернии, при поездках в Кретинген, Тауроген и другие наши пограничные пункты, где Мясоедов состоял на службе в ту пору в качестве старшего жандармского офицера, осуществлявшего наблюдение как за проезжающими через эту границу лицами, так и по секретным поручениям департамента полиции и корпуса жандармов. В этом пункте Мясоедов служил долгое время, сумел быть полезным многим высокопоставленным лицам, в особенности их женам во время возвращения в Россию с купленными за границею вещами, был в самых лучших отношениях со всеми пограничными властями Германии, пользовался особым вниманием к себе со стороны императора Вильгельма, всегда приглашавшего его на свои охоты в окрестностях, прилегающих к русской границе, в особенности вблизи Полангена, принимал участие в качестве коммерсанта-пайщика в германских и русских конторах в Вержболове и неоднократно в силу этого был на особом замечании чинов таможни и министерства финансов, имевшего даже по поводу неблаговидных в этом отношении действий Мясоедова ряд переписок со штабом корпуса жандармов, отстаивавшим Мясоедова. ...Тем не менее Мясоедов был отчислен, а встретился я с ним вновь, когда я был приглашен к участию в работах совета по делам торговли и мореплавания по расширению добровольного флота с точки зрения создания мощного русского коммерческого мореходства, которое могло бы в случае войны с Германией быть сильным подспорьем для нашего военного флота. С этой целью имелось в виду принять со стороны правительства все меры к тому, чтобы убить частную конкуренцию в лице «восточно-азиатского общества» и других предприятий, созданных немецкими акционерами, при широкой поддержке германского производства. Во время продолжительных заседаний при рассмотрении выработанного по сему поводу правительственного законопроекта мне пришлось вступать в самые горячие дебаты именно с полковником Мясоедовым, являвшимся тогда одним из главных представителей «Восточно-азиатского пароходного общества». Роль и значение в особенности этого общества была широко очерчена в «Торгово-промышленной газете» еще в 1905—1906 годах; она разоблачала деятельность этого и подобного рода пароходных предприятий, работавших в водах, омывающих Прибалтийский край, не столько с коммерческими, сколько со стратегическими и обследовательными — в интересах Германии — целями. Ввиду всех этих причин попытки Мясоедова вернуться в корпус оканчивались неудачей. Вследствие этого Мясоедов, не оставляя своего желания снова вступить в состав офицеров русской армии, как мне передавали, сблизился за границей с супругой Сухомлинова на почве оказания ей услуг, а затем и с ним самим во время лечения их на водах, сумел войти к ним в особое доверие и при приезде в Россию стал часто бывать у Сухомлиновых, ввиду чего, когда он выразил желание поступить в генеральный штаб для борьбы с контршпионажем, Сухомлинов изъявил свое согласие и, получив ответ от министерства внутренних дел, в общих чертах дающий неодобрительный отзыв о Мясоедове, лично обратился к министру внутренних дел А. А. Макарову с просьбой пересмотреть это дело. Когда А. А. Макарову была представлена мною в подробностях вся справка о Мясоедове, то он поручил мне отправиться к Сухомлинову и подробно с нею его ознакомить. Так как в этой справке явных улик, изобличающих Мясоедова как лицо, служащее интересам иностранной державы, не было, а было выставлено лишь много косвенных соображений, внушающих подозрение к нему, то Сухомлинов, узнав от меня, что эту справку составлял заведующий политическим отделом департамента полиции полковник Еремин, которого генерал Сухомлинов хорошо знал еще по Киеву во время службы Еремина в должности начальника киевского охранного отделения в дни революции, просил меня поручить Еремину прийти к нему со всеми подлинными переписками, относящимися к делу Мясоедова. Просмотрев все представленные Ереминым дела и выслушав доклад последнего об опасности допуска Мясоедова к делам особо секретного свойства генерального штаба, Сухомлинов тем не менее остался при своем первоначальном решении, и приказ о прикомандировании Мясоедова к генеральному штабу по отделу о контрразведке через некоторое время состоялся. После этого Мясоедов явился ко мне и дал понять, что хотя департамент полиции и чинил ему препятствия к его назначению, но тем не менее этим самым только укрепил доверие к нему со стороны Сухомлинова, давшего ему такое ответственное поручение, и просил меня допустить его к делам секретного свойства по политическому отделу для ознакомления с данными, могущими быть ему полезными в новой его должности. Получив от меня ответ, что все из интересующей его области департамент полиции от имени министра внутренних дел сообщает особо секретными письмами военному министру, Мясоедов тем не менее просил меня о разрешении до поры до времени заходить в особый отдел департамента полиции для наведения или проверки необходимых ему справок или для личного ознакомления с переписками, сославшись на то, что в данном случае эта просьба исходит не от него, а от военного министра. Хотя военный министр потом попросил министра внутренних дел оказывать в этом отношении содействие полковнику Мясоедову, но министр внутренних дел, которому я передал о своем опасении допуска Мясоедова к делам политического отдела, поручил мне продолжать старую систему сношения по делам о контршпионаже с министром военным, и поэтому я, переговорив с полковником Ереминым и Виссарионовым, установил, чтобы во время заходов к Еремину полковника Мясоедова Еремин в вежливой форме, не обижая его, узнав о существе его просьб, для последующего затем, если в департаменте полиции имеются сведения, сообщения начальнику генерального штаба или военному министру, отговаривался неимением в распоряжении департамента этих данных. Со своей стороны, и генерал Поливанов принял, как мне известно было из наведенной мною справки, ту же систему недопуска Мясоедова к делам и планам особо важного значения в деле обороны по генеральному штабу, что вызвало по жалобе Мясоедова личное вмешательство генерала Сухомлинова и, если я не ошибаюсь, изменение по его приказанию заведенного ранее в этой области порядка в выделении известной группы дел в личное заведование полковника Мясоедова, под его, министра, руководством... » ...Вот как работал агент Мясоедов под опекою военного министра Сухомлинова! Вот какие данные уходили в бронированные сейфы германского генерального штаба! Вот какого уровня шпиона смогли разоблачить русские военные разведчики, несмотря на то, что действовали они прямо против воли царя, ибо заносили руку на его любимца Сухомлинова. Казнь Мясоедова после приговора, вынесенного военным трибуналом в Варшаве, вызвала растерянность в германофильских кругах столицы, группировавшихся вокруг императрицы и Распутина. Однако негодование общественности было столь велико, что Сухомлинов был вынужден уйти в отставку. О дальнейшем развитии событий показывает тот же директор охранки Белецкий: «— Я изредка наносил визиты Сухомлинову, или, вернее сказать, его жене, а после его падения, будучи ему обязан принятием брата в Медицинскую академию, не счел себя вправе прекратить знакомство с человеком. До заключения его, Сухомлинова, в крепость я ценности обвинительного против него материала не знал. Мне, впрочем, было известно, что тогдашний помощник военного министра генерал Беляев бывал у Сухомлинова, как равно и некоторые другие из высших чинов военного министерства, а также я знал, что министр двора граф Фредерике, начальник охраны государя Воейков, генерал-адъютант Максимович и некоторые другие из придворных лиц продолжали относиться к генералу Сухомлинову с прежним благорасположением, не веря, чтобы он мог быть сознательным изменником родины. Зная характер Сухомлинова и некоторым образом порабощение его женою, я допускал возможность, что он по просьбе жены мог оказывать доверие лицам, преследовавшим и цели шпионажа, так как супруга генерала Сухомлинова была, с моей точки зрения, неразборчива в изыскании средств для фонда, обслуживавшего все организации, созданные ею в широких размерах в связи с военными обстоятельствами, и зачастую знакомилась и оказывала внимание почти незнакомым ей лицам, прибегавшим путем благотворительных взносов к ее влиянию и поддержке в преследовании личных выгод. Затем в первое мое посещение Сухомлинова он показал мне письмо, лично написанное ему самим государем, в котором его величество в очень доброжелательных выражениях изъявлял свое прежнее доверие Сухомлинову, свою благодарность за его службу и свое сожаление, что только напор общественных требований заставил его, государя, с ним расстаться. Начала сближения Сухомлиновых с Распутиным не знаю. Но думаю, что сгустившиеся над ними тучи заставили их прибегнуть к той оси, на которой вращались в ту пору судьбы России, — к Распутину, и, как только они нашли способ заручиться его особым к ним расположением, положение дела Сухомлинова резко изменилось, и супруге Сухомлинова было обещано оказание содействия в деле ее мужа. Так как министр юстиции А. А. Хвостов, несмотря на все обращенные к нему просьбы Сухомлиновой и влияние на него со стороны многих лиц, в том числе и премьер-министра, не шел ни на какие компромиссы, то под влиянием Распутина положение А. А. Хвостова сильно пошатнулось. Государь исполнил просьбу премьера Штюрмера о замене Хвостова на посту министра юстиции А. А. Макаровым. Распутин в это время был недоволен Штюрмером, ибо он хотя и передавал через фрейлину Никитину свои письма и прошения Штюрмеру, но последний или не считался с ним, или замедлял, по ним исполнение. Дело дошло до того, что Распутин вызвал к телефону Штюрмера и в самой непозволительной резкой форме потребовал исполнения прошений. Когда Штюрмер начал говорить, что он исполнит только некоторые из этих просьб, то Распутин не только настоял на исполнении всех, но еще прибавил новые. Хотя после этого Штюрмер стал чаще встречаться с Распутиным в помещении Никитиной в Петропавловской крепости, но зароненное подозрение сделало свое дело, и об изменившемся отношении Штюрмера к Распутину стало известно во дворце. Когда я вернулся осенью в Петроград и встретился в воскресенье у Распутина с Вырубовой, то как Распутин, так и она выразили свое неудовольствие по поводу того, что и новый министр юстиции А. А. Макаров не желает идти навстречу пожеланию императрицы в деле изменения меры пресечения относительно Сухомлинова, хотя и имеет в своих руках доказательства болезненного состояния последнего, и просили меня по этому поводу поговорить с ним. Будучи вслед за этим с визитом у Макарова, я передал ему просьбу Вырубовой и узнал от него, что он в интересах государя, оберегая его имя, не считает себя вправе вмешиваться в следственные действия по делу Сухомлинова, порученные сенатору Кузьмину, о чем он, Макаров, и докладывал уже его величеству. В таком духе я и передал Вырубовой ответ Макарова. Неожиданное для всех освобождение Сухомлинова из-под ареста последовало помимо Макарова, и, как я потом узнал, Распутин приписывал своему влиянию последовавшее из ставки высочайшее повеление на имя председателя совета министров Штюрмера, — «освободить!». Затем, будучи у Распутина незадолго до его смерти, по поручению Вырубовой, встревоженной распространявшимися как в Петрограде, так и в провинции слухами, дошедшими и до меня, о подготовлении убийства Распутина и потому просившей меня повлиять на Распутина быть осторожным в своих знакомствах и секретных выездах, я в разговоре с Распутиным узнал от него, что он не успокоится до тех пор, пока не добьется прекращения дела Сухомлинова. В заключение Распутин добавил, что по его настоянию Макаров будет сменен и его должность займет Н. А. Добровольский, которого он уже рекомендовал вниманию императрицы и государя, так как он, зная Добровольского лично, уверен, что Добровольский примет все меры к скорейшей ликвидации дела Сухомлинова... » ...Несмотря на то что Сухомлинов был отпущен из Петропавловской крепости к себе в дом, жена его стала по- прежнему разъезжать по столице на «моторе», сановники вновь принялись наносить визиты вежливости, тем не менее после казни Мясоедова утечка информации из святая святых России была остановлена мужеством, умом и достоинством русского военного офицера Якова Колаковского, доставившего в генеральный штаб, в его разведывательное ведомство, ту главную улику, которая и позволила нанести удар по лагерю изменников. Подвиг Колаковского — офицера русской военной разведки — позволил сделать достоянием гласности то, что тщательно скрывалось от народа, и кто знает, сколь много эта правда значила для тех, кто вскорости вышел на улицы Питера с оружием в руках, — весною девятьсот семнадцатого... Примечания:1 Талейран — французский дипломат, мастер интриги, одно время министр иностранных дел. 14 После ряда попыток японцев вывести железную дорогу из строя была усилена ее охрана. Каждый километр железной дороги в Маньчжурии охраняли 55 человек. Это весьма затруднило действия японских диверсантов, в то же время ослабив русскую армию на 50 тысяч солдат. 15 Ходя — пренебрежительное прозвище китайцев, бытовавшее в те годы в Маньчжурии. 16 Некоторые источники и документы тех лет называют Мясоедова подполковником по предшествующему званию. |
|
||
