|
||||
|
|
Часть третья О людях, на нас непохожих «Тайная» и «явная» история монголов XII–XIII вв.[39] До сих пор остается нерешенной проблема о значении создания Чингисханом мировой империи. Бесспорно, «вопрос о Чингисхане и его наследии требует объективного рассмотрения» [89, стр. 92 и след.], но возможно ли таковое на современном уровне наших знаний? Казалось бы, ответ должен быть утвердительным: источники по теме изданы и переведены на европейские языки, к большинству из них приложен комментарий справочного характера, имеются библиографические сводки такого количества работ, которое не под силу прочесть самому усидчивому ученому. Однако недостает одного – критической сводки сведений. Легко сослаться на любой источник, но нет уверенности в том, что там написана правда, тем более что описания одних и тех же событий в разных источниках весьма отличаются друг от друга. Особенно это касается самой важной темы – образования монгольского государства до курултая 1206 г., ибо внешние войны монголов изучены подробнее и точнее. Этому периоду были посвящены два сочинения XIII в.: «Алтан дебтер» («Золотая книга») и «Юань-чао би-ши» («Тайная история монголов»). Первое – это официальная история, прошедшая строгую правительственную цензуру, второе сочинение, составленное в 1240 г., содержит описание событий преимущественно внутренней истории монгольского народа, что, очевидно, соответствовало целям и интересам автора. Значение «Тайной истории монголов» для этнографии и истории монголов XIII в. бесспорно, но имеем ли мы право принимать на веру все изложенное в этом сочинении и какие поправки следует внести, чтобы восстановить истинный ход событий? Если бы нам были известны биография и личные связи автора, то все было бы просто, но мы не знаем его имени. Б. И. Панкратов допускает две гипотезы: запись со слов очевидца или коллективное творчество [154, стр. 5–6]. Еще более важно установить жанр и политическую направленность самого сочинения, но и тут нет общего мнения, что видно из разных переводов заглавия книги: «Сокровенное сказание» и «Тайная история» [66, стр. 30, прим. 2]. Это не совсем одно и то же[40]. Что касается политической направленности, то В. В. Бартольд считал его апологией аристократии [8, стр. 111], С. А. Козин – демократии [66, стр. 38 и сл.], Б. Я. Владимирцов писал, что цель сочинения – «сделаться заветным преданием дома Чингисхана, его историей, так как сказание действительно сокровенный источник рассказов о мрачных событиях, происшедших внутри одного рода, одной семьи, одной кости» [24, стр. 7]. Напротив, современные монгольские ученые Ц. Дамдинсурен и М. Гаадамба [28, стр. 5–6] полагают, что идея автора сводится к обоснованию необходимости объединения монгольских племен и проповеди торжества феодализма над родовым строем. При таком различии мнений только В. В. Бартольд [9, стр. 43] и Г. Е. Грумм-Гржимайло [39, стр. 407–409] ставят вопрос о степени достоверности источника, хотя и не предлагают решения проблемы. Мне представляется крайне сомнительным, чтобы автор «Тайной истории монголов» разбирался в таких понятиях, как «феодализм» и «родовой строй» и даже «аристократия» и «демократия». Скорее всего, у него были личные симпатии и антипатии к тем или другим Чингисидам, когда он в 1240 г. писал свое повествование о днях минувших. Именно эти симпатии определили тенденцию, которую он стремился провести, часто в ущерб истине. Прежде всего надо отметить, что «Тайная история монголов» в трактовке и изложении событий весьма отличается от истории официальной «Алтан дебтер», монгольский текст которой не сохранился, но лег в основу «Сборника летописей» Рашид ад-Дина [104, стр. 25] и «Юань ши» («История [династии] Юань») [15]. Достаточно привести некоторые несовпадения в тексте, чтобы показать, что они писались независимо друг от друга. Так, битва при Далан-Балджиутах, по официальной истории, закончилась полной победой Чингисхана [122, т. 1, кн. 2, стр. 86–88], а по тайной [66, § 129, стр. 112] – поражением его, которым Джамуха-сэчэн почему-то не воспользовался. Похищение Борте у Рашид ад-Дина описано иначе, чем в «Тайной истории монголов» [122, т. 1, кн. 2, стр. 115; 66, стр. 96 и сл.]. Казнь Джамухи у Рашид ад-Дина приписана Элчидай-нойону, который разрубил Джамуху на куски, а в «Тайной истории монголов» Чингисхан стремится спасти Джамухе жизнь и лишь по настоянию его самого позволяет ему умереть «без пролития крови», т.е. с великим почетом [122, т. 1, кн. 1, стр. 191; 66, стр. 158]. Характеристики исторических персон подчас диаметрально противоположны. Например, Джамуха в официальной истории изображен как беспринципный авантюрист, а в тайной – как патриот и верный друг Чингисхана, которого только обстоятельства и интриги вынудили на борьбу, причем, даже находясь в стане врага, Джамуха больше заботится об интересах Чингисхана, чем о своих собственных [66, стр. 131, 147–149 и особенно стр. 155]. Разная направленность источников очевидна. Ставить вопрос о том, кто прав: официальная или тайная история, – преждевременно. Обе писались в эпоху напряженной борьбы различных группировок внутри Монгольской империи и, несомненно, отражали эту борьбу. Следовательно, обе искажали истину, но по-разному. Для того чтобы ответить на интересующий нас вопрос о направлении автора «Тайной истории монголов», есть только один способ – разобрать источник по четырем линиям: 1) хронологическая последовательность событий; 2) принцип построения литературного произведения, т.е. жанр; 3) характеристики исторических персонажей с точки зрения автора; 4) политические симпатии автора в 1240 г., т.е. в момент написания сочинения. Критический анализ позволяет не только осветить этот вопрос, но и определить степень достоверности источника, без чего все историко-социологические соображения о роли Чингисхана будут зависеть от произвола исследователя и, следовательно, не могут претендовать на научное признание. Ведь в истории возвышения Чингисхана сомнительно все, начиная с даты его рождения. Уже Рашид ад-Дин допустил при определении этой основной даты вопиющее противоречие: сначала он говорит, что Чингисхан родился в год Свиньи, соответствующий 547 г. (1152–1153), а затем указывает возраст Чингисхана в момент его смерти (август 1227 г.) – 72 года, т.е. дата рождения падает на 1155 г. [122, т. 1, кн. 2, стр. 74][41].  Чингисхан. Китайская миниатюра В жизни Тэмуджина можно увидеть периоды разного значения. Первый период – детство, до смерти его отца, которая застала Тэмуджина в возрасте девяти лет [66, § 61. По Рашид ад-Дину, Тэмуджину было 13 лет [122, т. 1, кн. 2, стр. 76] (1171 г.). В этот период, естественно, не произошло никаких событий, нашедших отражение в истории. Второй период – отрочество, до того момента, когда Таргутай-Кирилтух тайчиутский захватил Тэмуджина в плен, и его бегство. «Тайная история монголов» сообщает лишь один факт этого времени: убийство Бектера Тэмуджином и Хасаром [66, § 76, 77 и 78] – и ниже вскользь упоминает о дружбе Тэмуджина с Джамухой, когда ему было 11 лет [Там же, § 116], т.е. в 1173 г. Однако можно думать, что в этот период случалось и нечто более значительное. В самом деле, тайчиуты напали на борджигинов не с целью грабежа, а только для того, чтобы поймать Тэмуджина, и, достигнув этого, удалились. Таргутай «подверг его законному наказанию». Очевидно, Тэмуджин натворил что-то не очень существенное, так как убивать его не следовало. Это и не продолжение ссоры из-за ухода тайчиутов, так как Таргутай-Кирилтух, схваченный своими холопами, хотевшими выдать его, говорит своим братьям и сыновьям, собиравшимся его отбить, что он воспитал и наставлял Тэмуджина, когда тот осиротел, и добавляет: «Говорят, он входит в разум и мысль его проясняется… Нет, Тэмуджин не погубит меня» [Там же, § 149]. Тут автор источника проговаривается о тех событиях, которые он старательно замалчивал: неизвестный поступок Тэмуджина, за который ему надели колодку, был расценен как ребячливость, глупое баловство, потому его и пощадили. Но тайчиутские старшины просмотрели пробивавшуюся властность, которую отметил батрак Сорган-Шипа и которую затушевал автор источника. Для чего это было ему нужно – мы увидим в дальнейшем. Датировать это событие трудно. Почему-то в литературе принято думать, что Чингису в это время было 16 лет, т.е. шел 1178 г., но подтверждений этого в источнике нет. Третий период – молодость – еще труднее для изучения. Следующий факт – женитьба на Борте – датируется по возрасту членов семьи борджигинов. Опорной датой при этом является время смерти Джучи, который родился в год набега меркитов, что привело к подозрениям в незг конном его происхождении. Джучи умер в 1225 г., будучи 30 лет с небольшим от роду [122, т. 1, кн. 2, стр. 79]. Стало быть, набег меркитов был совершен около 1190 г. и тогда Тэмуджину было 28–30 лет, но Угэдэю в 1241 г. было 56 лет [15, стр. 285], т.е. он родился в 1185 г., а Угэдэй младше Джучи. Из монгольской традиции мы знаем, что первое избрание Тэмуджина Чингисханом произошло в год Барса и его от похищения Борте и, следовательно, рождения Джучи отделяло полтора года. Так как Джучи старше Угэдэя, то 1194 г. исключается, следовательно, им был 1182 г., а контрнабег на меркитов – около 1180 г., т.е. тайчиутский плен, бегство из него, набег меркитов, контрнабег монголов, дружба с Джамухой и избрание в ханы – события, сгруппировавшиеся вместе в промежутке между 1178 и 1182 гг. И тут автор источника допускает оговорку, чрезвычайно ценную для нас. Джамуха, предлагая диспозицию контрнабега на меркитов, говорит: «На пути отсюда, вверх по Онону, есть люди, принадлежащие к улусу анды. Из улуса анды составится одна тьма. Да одна тьма отсюда, всего будет две тьмы» [66, § 106]. Очевидно, не только Боорчу и Джэлмэ примкнули к Тэмуджину, но еще какие-то люди подчинялись ему, хотя бы номинально. Это огромный шаг по сравнению с тем временем, когда Есугэевы сироты кормились черемшой и тарбаганами, но автор источника предпочитает не замечать его, хотя только он может объяснить нам внезапно возникшую ненависть тайчиутов к Тэмуджину. Четвертый период – зрелость – можно ограничить 1201 г. – годом Курицы, начиная с которого неточности источника переходят из хронологической области в другие. 1201 г. – внутренняя война в Монголии, начатая союзом племен, очевидно возмущенных и обеспокоенных энергичной политикой Чингисхана. Но какова была эта политика – источник ответа не дает. На все 18 лет этого периода падают только три события: ссора Тэмуджина с Джамухой, поход на татар и расправа с отложившимся родом Джурки. События эти датированы годом Собаки, начавшимся в сентябре 578 г.х., т.е. в 1182 г. [122, т. 1, кн. 2, стр. 120; 66, § 153][42] Следовательно, они имели место вскоре после избрания Тэмуджина ханом, около 1183–1184 гг. Остальные же 16 лет – время, когда Тэмуджин из мелкого князька превратился в претендента на престол не только Монголии, но и всей Великой степи, время, являющееся ключом к пониманию всех последовавших грандиозных завоеваний, время перелома в социальных отношениях и психологии самих монголов – не отражены в «Юань-чао би-ши» никак. Оно просто-напросто пропущены. При этом неосведомленность автора исключается, так как с § 120, т.е. с описания 1182 г., он заменяет местоимение «они» на «мы», показывая тем самым, что он был участником событий. Отсюда следует, что он снова опустил события, о которых по каким-то причинам не хотел говорить. На это странное обстоятельство обратил внимание уже Рашид ад-Дин [122, т. 1, кн. 2, стр. 84]. Очевидно, официальная история замалчивала те же события, что и тайная. В этом случае тенденции обеих версий совпадают. Если же событие приведено, как, например, битва при Далан-Балджиутах, то даются версии диаметрально противоположные. Тут мы подошли к основной проблеме – отношению автора «Тайной истории монголов» к главному действующему лицу – Тэмуджину, Чингисхану. Установив характер направленности источника, мы можем понять, какого рода искажения событий допустил или ввел сознательно в текст повествования его автор. Прежде всего необходимо отметить, что автор «Юань-чао би-ши», используя многие рассказы, предания и собственные воспоминания, настолько творчески их переплавил, что единый план сочинения не потерпел никакого ущерба. Некоторые из материалов обработаны очень мало, например: список нойонов и военный артикул для гвардии или фольклорные вставки в виде собственной речи, восхваление унгиратских женщин Дай-сэчэном и монгольской армии Джамухой. В первом случае автор преследовал цель соблюсти точность событий, может быть кажущуюся, а во втором – мы наблюдаем общеупотребительный литературный прием: введение в текст собственной речи, диалогов и монологов для оживления сухого повествования от третьего лица. Такого рода литературные приемы свидетельствуют лишь о начитанности автора и о существовании литературной традиции, но не больше. Первая часть «Юань-чао би-ши» – родословная монголов – похожа на литературную обработку устного предания о предке Бодончаре, но вторая часть – юность Чингиса – до первого его избрания в 1182 г. отличается и от предшествующей и последующей частей. Легендарный характер в ней исчезает, летописный же еще не появляется. Автор все еще пишет от третьего лица, но необычайно подробно. Например, как было светло от луны, когда Тэмуджин бежал из тайчиутского плена, как были распределены лошади при набеге меркитов и т.п. Если бы он был свидетелем событий, он написал бы хоть что-нибудь от первого лица. Следовательно, мы можем предположить, что он взял уже существовавшее до него сочинение на эту тему и переработал его согласно своему плану. Наличие такой устной литературы подтверждает Рашид ад-Дин. «В то время существовал некий мудрый и проницательный старец из племени Баяут. Он сказал: Сэчэ-бики из племени кийят-юркин имеет стремление к царствованию, но это дело не его. Джамухе-сэчэну, который постоянно сталкивает друг с другом людей и пускается в лицемерные ухищрения различного рода для того, чтобы продвинуть свое дело вперед, это также не удается. Джучибэра, иначе говоря, Джучи-Касар, брат Чингисхана, тоже имеет такое же стремление. Он рассчитывает на свою силу и искусство метать стрелы, но это ему также не удается. У Улак-Удура из племени меркитов, обладающего стремлением к власти и проявившего известную силу и величие, также ничего не получится. Этот же Тэмуджин, т.е. Чингисхан, обладает внешностью, повадкой и умением для того, чтобы главенствовать и царствовать, и он несомненно достигнет царственного положения. Эти речи он говорил, согласно монгольскому обычаю, рифмованной иносказательной прозой» [Там же, стр. 119]. В приведенной цитате упомянут жанр, бывший в XII в. в моде. Это не назидательное и не занимательное сочинение, а литературно обработанная политическая программа, приспособленная для целей агитации. Можно думать, что подобные произведения были использованы автором «Тайной истории» как материал. Отсюда он мог почерпнуть подробные сведения о XII в. Но при этом автор нигде не отступает от намеченного им единого плана. «Тайная история монголов» построена традиционно: за кратким вступлением следует завязка – похищение Оэлунь. Затем происходит нарастание действия и драматической ситуации до кульминационного пункта – смерти Джамухи. Автор применяет крайне элементарный прием, но всегда выигрышный – литературный параллелизм Джамуха – Тэмуджин. События после великого курултая 1206 г. изображены гораздо менее подробно. Это, собственно говоря, эпилог, причем автор оживляется лишь в конце, когда заставляет Угэдэя публично каяться в пьянстве, жадности и небрежении к боевым офицерам (убийство Дохолху). Излагаемый материал интересует автора весьма неодинаково. Мы видели, что он опускает описания целых десятилетий. Но одновременно он чрезвычайно подробно описывает эпизоды гражданской войны, некоторые события личной жизни Чингисхана, порочащие его, и совсем мало касается внешних войн и завоеваний, очевидно известных ему лишь понаслышке. Но все это не вредит целостности произведения, так как изложение истории монголов, по-видимому, не входило в задачу автора, так же как и прославление личности Тэмуджина. Какие цели преследовало сочинение – это станет ясно из анализа характеров главных действующих лиц. Однако, анализируя их, мы должны твердо помнить, что эти лица, пропущенные через сознание автора, стали персонажами, что автор отнюдь не объективен и что мы сейчас разбираем не эпоху, а литературное произведение, написанное много лет спустя и против кого-то направленное. Чингисхан – центральная фигура сочинения; однако сделать заключение о его личности, характере, способностях чрезвычайно трудно. Двойственное отношение автора к герою на всем протяжении повествования не меняется. Первая ипостась – Тэмуджин, человек злой, трусливый, вздорный, мстительный, вероломный. Вторая ипостась – Чингисхан, государь дальновидный, сдержанный, справедливый, щедрый. В самом деле, Тэмуджин как личность с первого момента кажется антипатичным. Его отец говорит его будущему тестю: «Страсть боится собак мой малыш» [66, § 66]. Болезненная нервность ребенка автором подается как трусость, т.е. самый постыдный порок военного общества. Когда Чарха рассказывает ему об уходе улуса, Тэмуджин плачет [Там же, § 73]. Это вполне человечная черта, но ее можно было бы опустить, говоря об объединителе страны. Во время набегов тайчиутов и меркитов Тэмуджин не принимает участия в организации отпора, и Борте, молодая любимая жена, сделалась добычей врагов только вследствие панического настроения мужа [Там же, § 103]. Молитву его на горе Бурхан также нельзя считать проявлением благородства как по содержанию, так и по стилю. Тэмуджин говорит: «Я, в бегстве ища спасения своему грузному телу, верхом на неуклюжем коне… взобрался на [гору] Бурхан. Бурхан-халдуном изблевана жизнь моя, подобная жизни вши. Жалея одну лишь жизнь свою, на одном-единственном коне, бредя лосиными бродами, городя шалаши из ветвей, взобрался я на халдун. Бурхан-халдуном защищена, как щитом, жизнь моя, подобная жизни ласточки. Великий ужас я испытал» [Там же, § 103]. Действительно, опасность была велика, но Хасар, Белгутей, Боорчу, Джэлмэ подвергались такому же риску и все-таки держались мужественно. Однако, выпячивая трусость Тэмуджина, автор незаметно для себя проговаривается, что как тайчиуты, так и меркиты ловили только Тэмуджина. Надо думать, что автор опустил описание его качеств, более неприятных врагу, чем трусость. Автор не останавливается на этом. Он приписывает ему порок, не менее позорный в условиях XII в., – непочтение к родителям и нелюбовь к родным. Тэмуджин из-за детской пустячной ссоры убивает своего брата Бектера, подкравшись сзади. Отношение автора сказывается в словах матери Тэмуджина, гневно сравнивающей своего сына со свирепыми зверями и демоном [Там же, § 76, 77, 78]. Но эти слова не могла сказать императрица Оэлунь, так как в числе животных назван верблюд. Известно, что в XII в. монголы почти не пользовались верблюдами, они получили их в большом количестве после тангутского похода в виде дани. Поэтому можно с уверенностью сказать, что этот монолог был сочинен не в XII, а в XIII в. Когда же Тэб-Тенгри наклеветал на Хасара, Чингисхан немедленно арестовывает его и подвергает унизительному допросу, который прекращен только благодаря вмешательству матери. Однако Тэмуджин не перестает обижать Хасара, чем ускоряет смерть своей матери [Там же, § 244, 246]. Автор не упрекает Чингиса в гнусном убийстве Тэб-Тенгри, но подчеркивает небрежение его к брату Отчигину [Там же, § 245, 246]. Наконец, дядя его Даритай обязан жизнью, а дети Джучи, Джагатай и Угэдэй – прощением только общественному мнению, т.е. заступничеству нойонов, с которыми хан не смел не считаться. Подозрительность и злоба сквозят также в эпизоде с Хулан, когда верный и заслуженный Ная подвергся пытке и чуть было не лишился жизни из-за несправедливого подозрения [Там же, § 197] в прелюбодеянии с ханшей. Злоба и мстительность Чингиса специально подчеркнуты автором в описании ссоры с джуркинцами на пиру, когда пьяную драку он раздул в распрю [Там же, § 130, 131, 132]. А последующая расправа с Бури-Боко, подлинным богатырем, своим вероломством шокирует даже самого автора, привыкшего к эксцессам. Этот эпизод передан сухо, сдержанно и брезгливо [Там же, § 140]. Даже женщины-ханши чувствуют отвращение к личности героя повествования. Пленная Есугань, став ханшей, ищет предлога уступить место другой и подсовывает мужу свою сестру, а эта последняя, волей-неволей мирясь со своим высоким положением, продолжает тосковать о своем женихе, нищем изгнаннике [Там же, § 155, 156]. Конечно, все это могло произойти в действительности, но интересно, что автор старательно собрал и записал сплетни ханской ставки, тогда как более важные вещи им опущены. Согласно «Тайной истории», в военных действиях Тэмуджин не проявляет талантов. Набег на меркитов – дело рук Джамухи и Ван-хана [Там же, § 113], битва при Далан-Балджиутах была проиграна, битва при Койтене получила благоприятный оборот лишь вследствие распада античингисовской конфедерации; разгром кэрэитов осуществил Чарухан; диспозицию разгрома найманов составил Додай-черби [Там же, § 193], а провели ее Джэбэ, Хубилай, Джэлмэ и Субэдэй. Становится совершенно непонятно, как такой человек, бездарный, злой, мстительный, трусливый, мог основать мировую империю. Но рассмотрим его вторую ипостась. Прежде всего, автор – патриот, и успехи монгольского оружия всегда ему импонируют. Травлю меркитов, поголовное истребление татар, обращение в рабство кэрэитов и найманов он рассматривает как подвиги, и тут Чингисхан получает все то почтение, в котором было отказано Тэмуджину. После битвы при Койтене Чингис показывает себя с наилучшей стороны: благодарный к Джэлмэ и Сорхан-Шире, рассудительный по отношению к Джэбэ. Его законодательные мероприятия состоят главным образом из благодеяний и наград начальствующему составу армии. Чингисхан внимательно прислушивается к увещеваниям своих военачальников и сообразует свои решения с их мнением [Там же, § 260]. Однако нетрудно заметить, что симпатия автора скорее на стороне награждаемых, чем их благодетеля. При описании армии автор впадает в патетический, даже экзальтированный тон [Там же, § 195]. Воззрения автора на Чингисхана – героя и вождя – выражены словами: «Итак, он поставил нойонами-тысячниками людей, которые вместе с ним трудились и вместе созидали государство» [Там же, § 224]. Автор тщательно отмечает, за какие подвиги даются те или иные милости, причем он не ленится даже повторить перечисление заслуг. В патетическом описании монгольской армии, вложенном в уста Джамухи, на первом месте поставлены «четыре пса: Джэбэ с Хубилаем да Джэлмэ с Субэдэем»; на втором – ударные полки Ууруд и Манхуд; хан и его братья на третьем, причем автор находит слова похвалы для всех, кроме Тэмуджина, о котором сказано лишь, что на нем хороший панцирь. Любимый герой автора – Субэдэй-багатур. В уста Чингисхана вложен целый панегирик Субэдэю: «Если бы к нему поднялись (бежавшие меркитские княжичи), то разве ты, Субутай, не настиг бы, обернувшись соколом, летя как на крыльях. Если б они, обернувшись тарбаганами, даже и в землю зарылись когтями своими, разве ты, Субутай, не поймаешь их, обернувшись пешнею, ударяя и нащупывая. Если б они и в море уплыли, обернувшись рыбами, разве ты, Субутай, не изловишь их, обернувшись неводом и ловя их» [Там же, § 199]. Другие нойоны тоже упоминаются автором, но не в столь восторженном тоне, а в общих перечислениях награжденных. А Субэдэй упомянут еще и как победитель русских [Там же, § 277]. И даже в числе четырех преступлений Угэдэя упомянуто тайное убийство Дохолху, простого чербня, но «который всегда шел впереди всех перед очами своего государя» [Там же, § 281]. Итак, можно констатировать, что автор приемлет хана постольку, поскольку его приемлет армия, но это не все. Автор подчеркивает верность «природному государю» как положительное качество, безотносительно к тому, вред или пользу приносит оно делу хана. Чингис казнит нукеров Джамухи, предавших своего князя, и Кокочу, конюшего Сангума, бросившего его в пустыне, и, наоборот, награждает Ная и Хаадах-багатура за верность его врагам, но их «природным государям». Но и в этом, по существу, видна проповедь солдатской верности знамени и вождю, так как учитывается только преданность в бою, а отнюдь не в мирное время. Идеология автора дает ретроспективное искажение описываемых событий. Пока нам важно установить, что положительная трактовка Чингисхана связана в глазах автора с последовательным служением собственному войску, а отрицательная – с его личными качествами. Эта трактовка событий сомнительна. Надо полагать, что дело обстояло не совсем так, как рисует нам автор «Юань-чао би-ши», тем более что он сам дважды проговаривается. В первый раз – когда Сорхан-Шира и его семья спасают Тэмуджина от тайчиутов, подчиняясь только обаянию его личности. Во второй раз – Боорчу бросает отцовское хозяйство и идет за незнакомым ему человеком по той же самой причине. Автор написал эти этюды, желая восхвалить Боорчу и Сорхан-Ширу, но тем самым он незаметно для себя бросил тень на свою концепцию, создание которой я отношу за счет уже неоднократно отмеченной тенденциозности. Для полноты картины следует рассмотреть характеристики врагов Чингисхана: Ван-хана и Джамухи, его детей – Джучи, Джагатая и Угэдэя, и фактического преемника его власти – полномочного министра Елюй Чу-цая. С Ван-ханом дело обстоит просто. Автор его явно недолюбливает, но, по-видимому, одновременно тут примешивается какая-то личная заинтересованность. Когда Ван-хан разбил меркитов, то «из этой добычи он не дал Чингисхану ничего» [Там же, § 157]. Очевидно, сам автор рассчитывал на долю меркитской добычи и обижен, что ему ничего не досталось. Чтобы очернить злосчастного кэрэитского царька, автор собрал сплетни, в которых обычно не бывает недостатка, и повторил их дважды: в особом абзаце [Там же, § 152] и в послании Чингиса к вождям враждебной коалиции [Там же, § 177]. Однако если собрать воедино все упоминания о Ван-хане, то он представляется старичком, недалеким, вялым и добродушным. Собольей шубы оказалось достаточно, чтобы купить его благосклонность, и он, рассчитываясь за подарок, предпринял нелегкий поход для освобождения Борте. На резкие упреки Джамухи в опоздании он отвечает в примирительном тоне; так же спокойно относится он к выбору Тэмуджина ханом, радуясь за симпатичного человека; на происки Джамухи он возражал разумно и спокойно, но склонность к компромиссам заставила его поддаться влиянию окружения и привела к гибели. В общем, даже по мнению автора, он заслуживает не порицания, а сожаления. Личность Джамухи – наибольшая загадка источника. Впервые он появляется, когда нужно освободить Борте из меркитской неволи, но мы знаем, что дружба Тэмуджина и Джамухи началась значительно раньше [Там же, § 116]. Джамуха с готовностью откликается на любую просьбу о помощи. Автор с воодушевлением рисует нам образ рыцаря, верного в дружбе, умного человека. В его речи содержится вся диспозиция похода, от составления которой отказался Ван-хан. Описание вооружения Джамухи чрезвычайно подробно. Специально подчеркивается его благородство: опоздавшему к месту встречи Ван-хану Джамуха гордо заявляет: «И в бурю на свидание, и в дождь на собрание приходить без опоздания. Разве отличается чем от клятвы монгольское „да“?» [Там же, § 108]. Успех похода, согласно «Юань-чао би-ши», был обусловлен точным исполнением диспозиции Джамухи, о чем автор говорит во второй раз, в благодарственном слове Тэмуджина [Там же, § 113]. Вопрос о ссоре Джамухи и Тэмуджина до сих пор детально не разобран. Все исследователи при рассмотрении причин ссоры придавали решающее значение загадке, которую Джамуха задал Тэмуджину выбором места для кочевья. На этот путь исследователей подтолкнул автор «Тайной истории». Несомненно, в загадке содержались элементы политических программ, так же как и в реплике Борте, но не в настоящем виде, а в ретроспективном взгляде из 1240 г. на 1182 г. Почему-то никем не замечено, что участники событий – Джамуха и Тэмуджин – давали совершенно разные объяснения, почему вспыхнула ссора. Джамуха называет виновниками разрыва с Тэмуджином определенных людей – Алтана и Хучара [Там же, § 127] – и повторяет эту версию перед гибелью, утверждая, что «подстрекнули нас противники, науськали двоедушные, и мы навсегда разошлись» [Там же, § 201). Тэмуджин же считает, что виновником ссоры был сам Джамуха, возненавидевший его от зависти [Там же, § 179). Итак, автор «Юань-чао би-ши» снова проговорился, но все же таланта его хватило на то, чтобы внушить читателю версию, выгодную его политической тенденции, смысл которой заключается в прославлении Джамухи, так как он «мыслью стремился дальше анды» [Там же, § 201]. Для чего это утверждение необходимо автору – мы увидим ниже. Образ Джамухи зиждется на противоположном принципе, нежели образ Тэмуджина, причем литературный параллелизм здесь выдержан необычайно четко. Все, что касается личности Джамухи, автор расценивает чрезвычайно высоко, и это мнение автор вкладывает в уста Тэмуджина, расценивая его как основание для прощения Джамухи. Но о политической программе Джамухи автор говорит весьма глухо, намеками и полунамеками. Он безапелляционно заявляет, что «Джамуха разграбил его же возводивший в ханы народ» [Там же, § 144], забывая, что и после этого большая часть монголов шла за Джамухой, а не за Чингисом. Очевидно, автор пытается дискредитировать карательные мероприятия Джамухи, которые были вполне понятны, так как созданная им конфедерация распадалась и воины дезертировали. Интриги Джамухи в кераитской ставке автор осуждает устами кераитских Ван-хана и Гурин-багатура, т.е. его врагов. Очевидно, что и в 1240 г. Джамуха продолжал оставаться фигурой одиозной для некоторых кругов монгольской правящей верхушки. Поэтому автор очень осторожен, он не хочет сильно чернить Джамуху, но и боится его обелить. Отношение автора к сыновьям Чингисхана скептическое, чтобы не сказать больше. Джучи он не любит и охотно передает сплетню о его незаконном происхождении. В Джагатае он отмечает только свирепость, а вялый и безличный Угэдэй изображен пьяницей, бабником и жадиной, огораживающим свои охотничьи угодья, дабы звери не убежали в уделы его братьев. Но Угэдэй и в действительности был личностью слабой, а все дела при нем вершил Елюй Чу-цай. Что же автор пишет о Елюй Чу-цае? Ни одного слова! Это так же странно, как если бы историк Людовика XIII забыл упомянуть Ришелье. Таким образом, наш анализ открыл ряд загадок источника, существования которых мы вначале не замечали. Ключ к раскрытию их один и тот же – политическая тенденциозность автора. Следовательно, мы имеем право заключить, что перед нами политический памфлет. Цель сочинения заключалась в том, чтобы представить читателям в 1240 г. монгольскую историю с определенной точки зрения и привить им определенную политическую концепцию. Поэтому название «Тайная история монголов» надо признать более удачным, чем «Сокровенное сказание», так как последнее имеет несколько иной смысловой оттенок, фольклорный. Отсюда понятны и хронологические пропуски, и оговорки, и двойственное отношение к прошлому, и повышенный интерес к внутренней истории. Но с кем же боролся, с кем полемизировал автор, настроенный патриотически и монархически? Чтобы понять это, мы должны обратиться к анализу эпохи 30–40-х годов XIII в. и попытаться представить себе не только самого автора «Тайной истории», но и обстановку, в которой он писал. Еще в последние годы царствования Чингисхана внутри Монгольской империи сложились два резко противоположных политических направления [104, т. 1, кн. 1, стр. 12–14]. Первое, которое можно назвать военной партией, стояло за беспощадное ограбление покоренных вплоть до полного истребления, с тем чтобы обратить пашни в пастбища [15, стр. 153–154]. Ориентировались на старую монгольскую традицию, выразителем которой после смерти Чингисхана был Субэдэй-багатур. Представители второго направления стремились урегулировать отношения с покоренными и превратить военную монархию в бюрократическую. Во главе его стоял канцлер Елюй Чу-цай. При Угэдэе вся власть оказалась в руках Елюй Чу-цая, который провел ряд реформ. Судебная реформа ограничила произвол монгольских военачальников, финансовая – ввела обложение самих монголов однопроцентным налогом со скота, китайское население империи было обложено налогом с огня (жилища), более легким, чем подушная подать, которую платили монголы и мусульмане. Такие налоги позволили населению восстановить разрушенное войной хозяйство и дали доход, который упрочил авторитет Елюй Чу-цая и дал ему возможность ограничить претензии монгольских военачальников. В 1233 г. Субэдэй после долгой осады взял г.Бяньцзин. По монгольскому закону жители сопротивлявшегося города должны были быть вырезаны, но Елюй Чу-цай представил хану доклад о том, какой большой доход можно получить, пощадив жителей [Там же, стр. 112]. Угэдэй согласился с ним. Субэдэй на следующий год оказался на третьестепенном северо-западном театре войны, откуда он не мог влиять на имперскую политику. Превращение военной монархии в бюрократическую, планомерно проводимое Елюй Чу-цаем, не могло не встретить сопротивления в тех слоях монгольского общества, которые были принуждены уступать завоеванное первое место. Но монголы ничего не могли поделать с ученым иностранцем, управляющим ими. Опасность для министра пришла с другой стороны. Система пошлин на привозные товары и возрождение китайского производства не могли прийтись по вкусу купцам, занимавшимся посреднической торговлей и желавшим иметь рынок исключительно для себя. Таковы были уйгуры и другие перешедшие на сторону монголов. Известны имена их вождей: Кадак; уполномоченный по переписи Китая, Чинкай, унаследовавший от Елюй Чу-цая пост премьера, – несториане; Абдуррахман, откупщик, и Махмуд Ялавач – мусульмане. Это были люди, искушенные в интригах. Уже в 1239–1240 гг. Абдуррахман получил на откуп налоги с Китая вопреки мнению Елюй Чу-цая, который разгорячился в споре до того, что хан сказал ему: «Ты, кажется, хочешь драться?» И добавил: «Долго ли ты будешь болеть за народ?» Несмотря на это, положение Елюй Чу-цая не было поколеблено. Угэдэй верил ему, зная его искренность, честность, ум и талант. Ненависть вельмож и интриги купцов оказались бессильными, но 11 декабря 1241 г. хан Угэдэй умер. Официально было объявлено, что хан умер от пьянства, но Плано Карпини передает настойчивые слухи об отравлении. А Рашид ад-Дин так горячо отвергает эту версию, что она невольно кажется справедливой. Как бы то ни было, но смерть Угэдэя развязала руки врагам Елюй Чу-цая. Чинкай заместил его в администрации, Абдуррахман – по части финансов. Несчастный министр умер в глубоком горе, видя крушение дела, которому он отдал свою жизнь. Смерть его настигла в 1244 г. в Каракоруме. Было бы ошибочно думать, что эпоха регентства Туракины была эпохой господства военной партии. Туракина унаследовала достаточно мощный аппарат, чтобы продержаться несколько лет, не обращаясь к поддержке оппозиционных социальных групп. Глупая и невежественная женщина, Туракина не отдавала себе отчета в том, что так не могло долго продолжаться. У власти оказалась придворная камарилья, во главе которой стояла Фатима-хатун, пленная персиянка, наперсница ханши. Интриги и произвол достигли своего расцвета. Чин-кай, спасая свою жизнь, должен был укрыться под защиту Кудэна, внука Угэдэя; Махмуд Ялавач бежал, обманув стражу, а нойон-темник Керегез был арестован и казнен по наветам Фатимы. Правление Туракины породило еще больше недовольства, чем управление Елюй Чу-цая. Военная же партия, сплоченная в 30-е годы, отнюдь не оказалась такой в 40-е. Она разбилась на две группы, соперничество которых помогло Туракине сохранить власть до августа 1246 г., когда на престол был избран Гуюк. Одна из них, отражавшая, как можно предположить, интересы монгольской военной аристократии, ветеранов, соратников Чингисхана, ориентировалась сначала на Тэмугэ-отчигина, который в 1242 г. сделал неудачную попытку захватить престол, а потом – на Батыя, ставшего старшим в роде, и Мэнгу. Другая, связанная с уйгурским купечеством, состояла, по-видимому, из среднего и низшего воинства, кераитского, найманского и кара-киданьского происхождения. Идеологией этой группы было христианство, а вождем стал личный враг Батыя – Гуюк, хотя он и не был христианином. В XIII в. исповедание веры и политическое направление в какой-то мере соответствовали друг другу. Несторианское христианство, занесенное в Центральную Азию в VII–VIII вв., к началу XIII в. достигло своего расцвета. Христианами были кераиты, самое многочисленное и культурное из монгольских племен, часть уйгуров, басмалы, и, по-видимому, христианская идеология была распространена и у найманов и кара-киданей. Большая часть кочевников, покоренных Чингисханом, так или иначе примыкала к христианству[43]. Во внешних войнах покоренные кочевники шли рука об руку с монголами, но внутри империи они были в подчинении у ветеранов Чингиса, которые исповедовали свою веру и допускали на высшие должности только своих единоплеменников. В 30-х годах XIII в. возникли противоречия между монгольскими царевичами, Гуюк смертельно поссорился с Батыем. Для того чтобы удержаться, ему надо было опереться на войско. Тогда Гуюк нашел опору среди низших слоев военачальников, т.е. среди кераитов, найманов, басмалов и других. Гуюк приблизил к себе христианских чиновников из Уйгурии – Кадака и Чинкая – и православных священников из Сирии, Византии, Осетии и Руси [122, т. 1, кн. 2, стр. 121; 120, стр. 79–80], одновременно объявив себя врагом латинства[44] и ислама. Он собирался продолжить завоевательную политику своего деда, очевидно для того, чтобы оделить военной добычей своих сподвижников, обойденных монгольской военной аристократией. Рашид ад-Дин приводит пример его «щедрости»: ткани, привезенные в ханскую ставку купцами, оплачивала обычно казна. Когда их скопилось много, Гуюк приказал раздать товары бесплатно войску [122, т. 1, кн. 2, стр. 121]. Смысл мероприятия Гуюка ясен. Купцы, не продавшие товары, получили возмещение из казны. Низы армии, недостаточно богатые, чтобы купить роскошные ткани, получили их даром. Расплатилась за всех провинция. Внезапная смерть Гуюка изменила ситуацию в пользу «старомонгольской партии». Теперь обстановка 1240 г. ясна и одновременно проясняется творческий облик автора «Тайной истории монголов». Отмеченные военные симпатии автора и замалчивание имени Елюй Чу-цая позволяют с полной уверенностью определить его партийную принадлежность. Он дает резко отрицательную характеристику Гуюку, который «не оставлял у людей и задней части, у кого она была в целости», и «драл у солдат кожу с лица», «при покорении русских и кыпчаков не только не взял ни одного русского или кыпчака, но даже и козлиного копытца не добыл». Вместе с тем образ Тэмугэ-отчигина всегда положителен: «Отчигин – малыш матушки Оэлунь, слывет он смельчаком. Из-за погоды не опоздает, из-за стоянки не отстанет». В истории с убийством Тэб-Тэнгри автор стремится выгородить не Тэмуджина, а Отчигина. Он подчеркивает, что Отчигин был всегда любимцем высокочтимой Оэлунь-еке. Ясно, что автор «Тайной истории монголов» принадлежал к «старомонгольской партии». Потому он и обеляет Джамуху, представляющегося ему носителем древнемонгольской доблести и традиций, уходящих в прошлое. Потому он выгораживает его от обвинения в измене монгольскому делу устами самого Чингисхана, будто бы предлагавшего ему «быть второй оглоблей» в телеге государства, другом и советником [66, § 200]. Именно поэтому он восхваляет предательство Джамухи по отношению к кераитам и найманам, потомки которых в 1240 г. объединились вокруг Гуюка, ненавидимого и презираемого автором. И не случайно говорит он устами Джамухи, что тот, «стремясь мыслью дальше анды», остался круглым сиротой с одной женой – «сказительницей старины» [Там же, § 200]. Ведь это неправда! Друзья и соратники Джамухи в то время еще не сложили оружия. Мужественные меркиты и неукротимый найманский царевич Кучлук держались до 1218 г., а Джамуха попал в плен случайно, из-за измены своих воинов. Но что до этого автору «Тайной истории монголов»! Ему надо прославить древнюю монгольскую доблесть и изобразить кэрэитов и найманов беспечными, изнеженными хвастунами, чуть ли не трусами [Там же, § 185, 189, 195, 196], за исключением некоторых богатырей, вроде Хадак-багатура, обласканного за доблесть самим Чингисханом [Там же, § 185]. Потому он замалчивает роль Эльчжидай-нойона в казни Джамухи, ибо ему пришлось бы отметить, что этот друг Гуюка был также любимцем Чингисхана, а тогда созданная в «Тайной истории монголов» концепция потеряла бы свою политическую действенность. Эльчжидай упомянут там лишь в той связи, что однажды, проходя мимо стражи, он был задержан, и дважды при этом сказано, что это правильно [Там же]. Возврат к старой доблести – вот идеал автора и политическая платформа, ради которой он написал свое замечательно талантливое сочинение. В 1240 г. он был, видимо, очень стар, потому что с 1182 г. местоимение «мы» заменяет «они». Если в это время автору было даже только 16–18 лет, то в 1240 г. ему должно было быть под 80. По одному этому можно сказать, что «Тайная история монголов» не могла быть единственным его произведением, но время и эпоха похитили у нас остальные. Отсюда понятны не только его грандиозная начитанность и свободное обращение с цитатами и изменение интонаций на протяжении повествования, но и само заглавие. Поистине «Тайная история» – это протест против официальной традиции, идеализировавшей личность Чингисхана. Автор поставил своей целью доказать, что не хан, а доблестное монгольское войско создало империю. Хан может ошибаться, может иметь недостатки, но он должен чтить и холить своих ветеранов, «которые вместе с ним трудились и вместе создавали государство» [Там же, § 224]. Памфлет писался тогда, когда грамотеи с соизволения хана оттесняли ветеранов. Он был рассчитан на пропаганду среди этих обижаемых офицеров, он доказывал им, что соль земли именно они и что им обязана империя своим существованием. Конечно, это была тайная история, так как монгольское правительство никогда не допустило бы открытой пропаганды таких взглядов. Мы ничего не можем сказать о дальнейшей судьбе автора «Тайной истории монголов», но мне невольно кажется, что он был среди тех нойонов, которые подбивали на переворот Отчигина в 1242 г. и которые заплатили головой за бездарность и трусость своего высокородного вождя. Но если тенденция «Тайной истории монголов», чернящая Тэмуджина, является полемикой против официального восхваления его личности, то и линия, обеляющая его, тоже, очевидно, против кого-то направлена. Учитывая, что Чингисхану и его дружинникам-головорезам завоевание собственной страны досталось труднее, чем любая из побед против врагов зарубежных, мы не только вправе, но обязаны предположить в среде монгольских родовичей крайне скептическое отношение к созданию мировой империи на трупах их соплеменников. Мысли и чувства униженных и ограбленных кераитов, найманов, ойратов, татар и прочих покоренных кожевников не могли не воплощаться в произведениях, по жанру подобных «Тайной истории монголов». Против них-то и выступает вторая тенденция – прославление справедливого и мудрого хана-вседержителя, устроителя державы, водворившего в Монголии порядок. Натяжка здесь очевидна: «порядок» выражался в захвате красивых женщин для раздачи победителям да в карательных экспедициях против доведенных до отчаяния их мужей и отцов [Там же, § 241]. Сама Монголия от «объединения» пострадала не меньше, чем Средняя Азия, Россия или Маньчжурия, и требовалось убедить остатки ее населения в том, что тут есть не только кровь и одичание, но и спокойствие и величие, чему покоренные кочевники вряд ли охотно верили. В данном вопросе интересы монгольских ханов и монгольских ветеранов совпадали. В 1240 г. единодушие еще не было нарушено, и это четко отражено в нашем источнике. Все сказанное свидетельствует о том, что оценки и социологический анализ эпохи возвышения Чингисхана возможны лишь после проверки сведений, сообщаемых источниками, путем строгой исторической критики, как внутренней, так и компаративной. Выяснить, кто из монгольских витязей боролся за установление феодальных отношений, а кто против, можно только тогда, когда будут вскрыты мотивы их деятельности, а именно они тщательно затушеваны авторами источников. Распространенный метод аргументации цитатами уводит на ложный путь, подсказанный тенденцией, скрытой в источнике. Кроме того, при отмеченном нами разнобое в описаниях событий всегда можно подобрать цитаты для поддержки противоположных взглядов. Именно поэтому научные споры на эти темы не дали до сих пор результатов. Вопрос о степени достоверности сведений «Тайной истории монголов» следовало бы решить монголистам, филологам. Однако за последние 20 лет, истекших с выхода в свет перевода С. А. Козина, эта проблема даже не ставилась. Все споры о замечательном источнике, введенном в научный оборот, ограничивались деталями перевода, не влияющими на смысл, который остался нераскрытым. Историки же окрестных стран затрагивали «чингисову» проблему в той мере, в какой она касалась их сюжетов. Единственной надежной опорой для обобщения является логика событий, когда их последовательность и взаимосвязь установлены. Только этим способом могут быть исключены предвзятые точки зрения авторов XIII в., до сих пор создающие почву для бесплодной полемики о причинах и значении описанных ими событий. Монголы XIII в. и «Слово о полку Игореве»[45] (Доложено на заседании отделения этнографии ВГО 15 октября 1964 г.) Отношения оседлых славянских племен и тюркоязычных кочевников в X–XV вв. – тема, разработанная далеко не достаточно. Наиболее распространенное мнение, что «Азия была народовержущим вулканом» (Н. В. Гоголь), а Русь – «щитом Европы», обеспечившим ей беспечальное процветание (A.C. Пушкин и A.A. Блок), при детальном рассмотрении оказывается несостоятельным. На самом деле отношения русских с печенегами, половцами и татарами прошли длинную эволюцию и менялись подчас диаметрально. Да и сами кочевники не представляли единообразной массы, стремящейся к грабежам и убийствам. То те, то другие племена выступали как союзники русских князей в войнах с Византией, Польшей, Венгрией и даже Орденом. Таким образом, бытующее ныне мнение базируется не на реальной истории, а на отдельных литературных памятниках, усвоенных некритически. И на первом месте среди этих памятников стоит «Слово о полку Игореве». С момента своего появления из мрака забвения «Слово о полку Игореве» начало вызывать споры. Сложились две точки зрения: 1) «Слово» – памятник XII в. и было составлено современником событий в 1187 г.; 2) «Слово» является подделкой XVIII в. (вариант – XV–XVI вв.) и написано на материале Ипатьевской летописи. Еще в 1962 г. вышла книга, содержащая доказательства неправильности второй концепции [132], что само по себе говорит о слабости первой, несмотря на очевидную древность изучаемого памятника. Несомненно, что столь хорошо датирующийся памятник, как «Задонщина», содержит элементы заимствования из «Слова о полку Игореве», и, следовательно, «Слово» древнее Куликовской битвы [78]. Тем самым отпадают все более поздние датировки, но самый факт наличия дискуссии показывает, что дата 1187 г. вызывает сомнения. Поэтому мы предлагаем новый, дополнительный материал и новый аспект. Чтобы не дублировать достигнутого нашими предшественниками, мы принимаем за основу исчерпывающий комментарий Д. С. Лихачева [130, стр. 352–368[46]], за исключением тех случаев, когда он оставляет вопрос открытым. С другой стороны, мы принимаем для аспекта иной исходный пункт и рассматриваем содержание памятника с точки зрения его правдоподобия при изложении событий, в нем описанных. Иными словами, мы кладем описание похода Игоря на канву Всемирной истории, с учетом того положения, которое имело место в степях Монголии и Дешти-Кыпчака. Наконец, мы исходим из того, что любое литературное произведение написано в определенный момент, по определенному поводу и адресовано читателям, которых оно должно в чем-то убедить. Если нам удастся понять, для кого и ради чего написано интересующее нас сочинение, то обратным ходом мысли мы найдем тот единственный момент, который отвечает содержанию и направленности произведения. И в этом разрезе несущественно, имеем ли мы дело с вымыслом или реальным событием, прошедшим через призму творческой мысли автора. Недоумения. Принято считать, что «Слово о полку Игореве» – патриотическое произведение, написанное в 1187 г. (стр. 249) и призывающее русских князей к единению (стр. 252) и борьбе с половцами, представителями чуждой Руси степной культуры. Предполагается также, что этот призыв «достиг… тех, кому он предназначался», т.е. удельных князей, организовавшихся в 1197 г. в антиполовецкую коалицию (стр. 267–268). Эта концепция действительно вытекает из буквального понимания «Слова» и поэтому на первый взгляд кажется единственно правильной. Но стоит лишь сопоставить «Слово» не с одной только группой фактов, а рассматривать памятник вместе со всем комплексом реальных событий, как на Руси, так и в сопредельных ареалах, то немедленно возникают весьма тягостные недоумения. 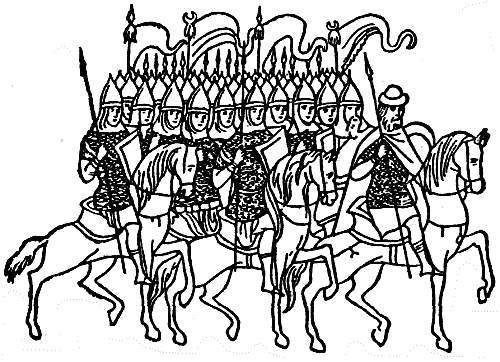 Дружина русского князя. По рисунку из летописи Во-первых, странен выбор предмета. Поход Игоря Святославича не был вызван политической необходимостью. Еще в 1180 г. Игорь находится в тесном союзе с половцами, в 1184 г. он уклоняется от участия в походе на них, несмотря на то что этот поход возглавлен его двоюродным братом Ольговичем – Святославом Всеволодовичем, которого он только что возвел на киевский престол. И вдруг, ни с того ни с сего, он бросается со своими ничтожными силами завоевывать все степи до Черного и Каспийского морей (стр. 243–244). При этом отмечается, что Игорь не договорился о координации действий даже с киевским князем. Естественно, что неподготовленная война кончилась катастрофой, но, когда виновник бед спасается и едет в Киев молиться «Богородице Пирогощей» (стр. 31), вся страна, вместо того чтобы справедливо негодовать, радуется и веселится, забыв об убитых в бою и покинутых в плену. С чего бы?! Совершенно очевидно, что автор «Слова» намерен сообщить своим читателям нечто важное, а не просто рассказ о неудачной стычке, не имевшей никакого военного и политического значения. Значит, назначение «Слова» – дидактическое, а исторический факт – просто предлог, на который автор нанизывает нужные ему идеи. Историзм древнерусской литературы, не признававшей вымышленных сюжетов, отмечен Д. С. Лихачевым (стр. 240), и потому нас не должно удивлять, что в основу назидания положен факт. Значит, в повествовании главное не описываемое событие, а вывод из него, т.е. намек на что-то вполне ясное «братии», к которой обращался автор, и вместе с тем такое, что следовало доказывать, иначе зачем бы и писать столь продуманное сочинение. Нам, читателям XX в., этот намек совсем неясен, потому что призыв к войне с половцами был сделан Владимиром Мономахом в 1113 г. предельно просто, понят народом и князьями также без затруднений и стал трюизмом. Но к концу XII в. этот призыв был неактуален, потому что перевес Руси над половецкой степью сделался очевиден[47]. В это время половцы в значительном количестве крестились и принимали участие в усобицах ничуть не больше, чем сами князья Рюриковичи. Призывать в такое время народ к мобилизации просто нелепо. Но мало этого, сам «призыв» в плане ретроспекции вызывает не меньшие сомнения. С вышеописанных позиций автор «Слова» должен был бы отрицательно относиться к князьям, приводившим на Русь иноплеменников. Автор не жалеет осуждений для Олега Святославича, приписывая ему все беды Русской земли. Однако прав ли он? Олег должен был унаследовать золотой стол Киевский, а его объявили изгоем, лишили места в лествице, предательски схватили и, по договоренности с византийским императором Никифором III (узурпатор) и князем киевским Всеволодом I, отправили в заточение на остров Родос (1079). Можно было бы думать, что отрицательное отношение к Олегу объясняется тем, что за год перед этим он при помощи половцев добыл родной Чернигов, а затем спровоцировал кровавое столкновение на Нежатиной Ниве (3 октября 1078 г.). Пусть так, но ведь антагонист Олега, Владимир Мономах, за год перед этим первый привел половцев на Русь, чтобы опустошить Полоцкое княжество. За что же такая немилость Олегу? Может быть, Олег не первый начал обращаться за помощью к половцам, но применял эту помощь в больших масштабах? Но за период с 1128 по 1161 г. Ольговичи приводили половцев на Русь 15 раз [107, стр. 222], а один только Владимир Мономах – 19 раз [135, т. 1, стр. 374]. Очевидно, тут вопрос не в исторической правде, а очень дурном отношении автора «Слова» к Олегу. Но за что? Вражда Мономаха с Олегом за Чернигов носила характер обычной княжеской усобицы и не вызывала острого отношения русского общества. Резко отрицательное отношение к Олегу проявилось лишь после 1095 г. Тогда Владимир Мономах заманил для переговоров половецкого хана Итларя, предательски убил его, вырезал его свиту и потребовал от Олега Святославича выдачи на смерть сына Итларя, гостившего в Чернигове. Олег отказал! Вызванный в Киев на суд митрополита, Олег заявил: «Не пойду на суд к епископам, игуменам да смердам» [Там же, стр. 379]. Вот после этого, и только тогда, Олега объявили врагом Русской земли, что распространилось и на его детей. Это плохое отношение к Ольговичам было не повсеместно. Скорее, это была платформа группы, поддерживавшей князя Изяслава Мстиславича и его сына, но для нас важно, что автор «Слова» держится именно этой точки зрения[48], и не в кочевниках тут дело. Обе стороны привлекают в качестве союзников и половцев, и торков с берендеями, и даже мусульман-болгар. Например, в 1107 г. Владимир Мономах, Олег и Давыд Святославичи одновременно женили своих сыновей на половчанках. Правда, разница была: Олег и его дети дружили с половецкими ханами, а Мономах и его потомки их использовали, но это нюанс. Невозможно, чтобы точка зрения авторов Ипатьевской летописи и «Слова», осуждающая Олега, была единственной на Руси. Очевидно, должна была существовать черниговская традиция, обеляющая Олега. Черниговская летописная версия не дошла до нас, но вскрыта М. Д. Приселковым как «третий источник киевского великокняжеского свода 1200 г., использованный в выписках» [116, стр. 49–52; 31, стр. 90]. Однако, автор «Слова», по мнению М. Д. Приселкова, предпочел киевскую традицию, враждебную Олегу, и в своих симпатиях совпадает с черниговским летописцем только по отношению к Игорю Святославичу, который и в черниговском варианте назван «благоверным князем» [116, стр. 49]. Противопоставление Игоря его деду Олегу бросается в глаза. Оно проходит по двум главнейшим линиям: отношению к степи и отношению к Киевской митрополии! В самом деле, вражда двух княжеских группировок связана не только с изгойством Олега Святославича. Ведь в ней принимало участие население городов Северской земли, без поддержки которого князья Ольговичи долго воевать не могли. И вот тут-то мы подходим к вопросу, вернее, к постановке гипотезы, которая, если она правильна, позволит решить этот вопрос. И ключ к решению содержится в тексте «Слова о полку Игореве». Хины. В «Слове» трижды упоминается загадочное название «хин». Д. С. Лихачев определил, что это «какие-то неведомые восточные народы, слухи о которых могли доходить до Византии и от самих восточных народов, устно и через ученую литературу» (стр. 429). Но народа с таким именем не было![49] Больше того, хины упоминаются как соседи Руси. Поражение Игоря «буйство подаста хинови» (стр. 20). Воины князей Романа Волынского и Мстислава Городецкого – двух западнорусских князей – гроза для «хинов» и литовских племен (стр. 23). Наконец, «хиновьскыя стрелкы» в устах Ярославны – образ, совершенно ясный для читателей «Слова». Значит, этот термин был хорошо известен на Руси. Единственное слово, соответствующее этим трем цитатам, – название чжурчжэньской империи: Кин – современное чтение Цзинь – золотая (1126–1234)[50]. Замена «к» на «х» показывает, что это слово было занесено на Русь монголами, у которых в языке звука «к» нет[51]. Но тогда возраст этого сведения не XII в., а XIII в., не раньше битвы при Калке – 1223 г., а скорее позже 1234 г., и вот почему. Империя Кин претендовала на господство над восточной половиной Великой степи до Алтая и рассматривала находившиеся там племенные державы как своих вассалов. Этот сюзеренитет был отнюдь не фактическим, но юридическим, и племена кераитов, монголов и татар считались политическими подданными империи, т.е. кинами, хотя отнюдь не чжурчжэнями. Такое условное обозначение было в Азии весьма распространено. Так, монголы до Чингисхана назывались татарами, так как племя татар держало гегемонию в Степи. Потом покоренные Чингисом племена стали называться монголами или, по старой памяти, татарами, причем это название закрепилось за группой поволжских тюрок. Для понимания истории Азии надо твердо усвоить, что национальных названий там до XX в. не было. Поэтому, после того как чжурчжэньская империя была завоевана монголами, последних продолжали называть «кины» в политическом, но не этническом смысле слова. Однако это название было вытеснено новыми политическими названиями: Монгол и Юань. Совместно с ними оно могло бытовать, применительно к монголам, только в середине XIII в. Но тогда значит, что под «хинами» надо понимать монголо-татар Золотой Орды, и, следовательно, сам сюжет «Слова» не более как зашифровка. Да, такова наша догадка, и в ее же пользу говорит не объясненное автором упоминание «хиновьских» стрел (стр. 27). В средние века стрелы были дефицитным оружием. Изготовить хорошую стрелу нелегко, а расходовались они быстро. Поэтому ясно, что, захватив чжурчжэньские арсеналы, монголы на некоторое время обеспечили себя стрелами. Для автора «Слова», так же как и для его читателей, хиновские, т.е. монгольские, стрелы – понятие вполне определенное. Стрелы дальневосточных народов отличались тем, что они иногда бывали отравлены. Этот факт не был никогда отмечен современниками-летописцами, потому что он был военным секретом монголов. Но анализ некоторых фрагментов из «Сокровенного Сказания» [66, стр. 33, 145, 173, 214] показывает, что раненных стрелами отпаивают молоком, предварительно отсосав кровь. Видимо, применялся змеиный яд, который не всасывается стенками кишечника, вследствие чего его можно без вреда проглатывать. Своевременное отсасывание крови из раны и доставление нескольких глотков молока расцениваются как спасение жизни. Так, собираясь в поход против меркитов, Джамуха говорит: «Приладил я свои стрелы с зарубинами». Для чего на стреле могут быть зарубины? Они весьма усложняют изготовление стрелы и ничуть не увеличивают ее боевых качеств. Назначение зарубин могло быть только одно: возможно дольше удержать стрелу в ране. А это особенно важно, если стрела отравлена. Несколько ниже источник подтверждает нашу догадку. В сражении «Чингисхан получил ранение в шейную артерию. Кровь невозможно было остановить, и его трясла лихорадка (симптом отравления. – Л. Г.). С заходом солнца расположились на ночлег на виду у неприятеля, на месте боя. Джэлмэ все время отсасывал запекавшуюся кровь (первое и главное средство против змеиного яда. – Л. Г.). С окровавленным ртом он сидел при больном, никому не доверяя сменить его. Набрав полон рот, он то глотал кровь (змеиный яд не всасывается стенками кишечника. – Л. Г.), то отплевывал. Уж за полночь Чингисхан пришел в себя и говорит: «Пить хочу, совсем пересохла кровь». Тогда Джэлмэ сбрасывает с себя все – и шапку, и сапоги, и верхнюю одежду, оставаясь в одних исподниках, почти голый, пускается бегом прямо в неприятельский стан напротив. В напрасных поисках кумыса (молоко – противоядие. – Л. Г.) он взбирается на телеги тайчиутов, окруживших лагерь своими становьями. Убегая второпях, они бросили своих кобыл недоеными. Не найдя кумыса, он снял с какой-то телеги огромный рог кислого молока и притащил его…». Принеся рог с кислым молоком, тот же Джэлмэ сам бежит за водой, приносит, разбавляет кислое молоко и дает испить хану. (Значит, вода была близко, но все-таки потребовалось достать молока, хотя бы с риском для жизни.) «Трижды переведя дух, испил он и говорит: „Прозрело мое внутреннее око!“ (помогло! – Л. Г.). Между тем стало светло, и, осмотревшись, Чингисхан обратил внимание на грязную мокроту, которая получилась оттого, что Джэлмэ во все стороны отхаркивал отсосанную кровь (выделено мною. – Л. Г.). «Что это такое? Разве нельзя было ходить плевать подальше?» – сказал он. Тогда Джэлмэ говорит ему: «Тебя сильно знобило, и я боялся отходить от тебя, боялся, как бы тебе не стало хуже. Второпях всяко приходилось: глотать, так глотнешь, плевать, так плюнешь. От волнения изрядно попало мне и в брюхо» (Джэлмэ намекает на то, что глотал гадость ради хана. – Л. Г.). «А зачем это ты, – продолжал Чингисхан, – голый побежал к неприятелю, когда я лежал в таком состоянии? Будучи схвачен, разве ты не выдал бы, что я нахожусь в таком положении?» «Вот что я придумал, – говорит Джэлмэ, – вот что я придумал, голый убегая к неприятелю. Если меня поймают, то я им скажу: „Я задумал бежать к вам, но те, наши, догадались, схватили меня и собирались убить. Они раздели меня и уже стали стягивать последние штаны, как мне удалось убежать к вам“. Так я сказал бы им. Я уверен, что они поверили бы мне, дали бы одежду и приняли бы к себе. Но разве я не вернулся бы к тебе на первой попавшейся лошади? Только так я могу утолить жажду моего государя, подумал я, и в мгновение ока решился». (И опять-таки речь идет не о жажде, а о противоядии, так как жажда лучше утоляется водой, я не молоком. – Л. Г.). Тогда говорит ему Чингисхан: «Что скажу я тебе?! Некогда, когда нагрянули меркиты, ты в первый раз спас мою жизнь. Теперь ты снова спас мою жизнь, отсасывая засыхавшую (точнее, выступавшую или умиравшую. – Л. Г.) кровь, и снова, когда томили меня озноб и жажда, ты, пренебрегая опасностью для своей жизни, во мгновение ока проник в неприятельский стан и, утолив мою жажду, вернул меня к жизни (отсасывание крови и несколько глотков молока расценено как спасение жизни и приравнено к неравной, героической обороне горы Бурхан, – Л. Г.). Пусть же пребудут в душе моей эти твои заслуги». Так он соизволил сказать». Не менее характерен другой эпизод. После боя с кераитами «…Борохул и Угэдэй. Подъехали. У Борохула по углам рта струится кровь. Оказывается, Угэдэй ранен стрелой в шейный позвонок, а Борохул все время отсасывал у него кровь, и от того-то по углам рта его стекала спертая кровь… Чингисхан приказал тотчас же разжечь огонь, прижечь рану и напоить Угэдэя». Ниже описание подвига Борохула повторено, причем, подчеркнуто, что своевременным отсасыванием была спасена жизнь Угэдэя. Я полагаю, что в обоих случаях картина отравления несомненна и даже можно определить, какой яд употреблялся. Известно, что растительные яды – алкалоиды – действуют чрезвычайно быстро, а здесь мы имеем медленно действующий яд, против которого действенны отсасывание крови и прижигание. Таков змеиный яд. Его могли взять у гадюки, которыми изобилует Забайкалье. Способ добывания этого яда крайне прост – выдавливание из зубов гадюки на блюдечко. Высушенный яд можно хранить сколько угодно и, растворив в воде, пустить в дело. Отравлялись, по-видимому, только стрелы, так как Хуилдар мангутский, будучи ранен копьем, умер лишь от того, что на охоте, во время скачки, открылась рана. О признаках отравления источник не говорит. В более ранние эпохи у тюрок и уйгуров оружие не отравлялось, так как китайские летописцы, до IX в. вполне осведомленные, чрезвычайно внимательно относившиеся к военной технике соперников, указывают только на один вполне специфический случай. Тюркский каган Сылиби Ли Сымо, любимец императора Тайцзуна Ли-Шиминя, был в походе на Корею случайно ранен стрелой, и император лично отсасывал ему кровь [16, т. 1, стр. 262]. Это последнее указание дает нам возможность проследить, откуда заимствовали степные кочевники употребление яда для стрел. На стороне корейцев сражались мохэ или ути, их северные соседи, обитавшие по берегам реки Сунгари. Это потомки древних сушеней и предки чжурчжэней. В Бейши про них сказано: «Употребляют лук длиной в 3 фута, стрелы в 1,2 фута. Обыкновенно в седьмой и восьмой луне составляют яды и намазывают стрелы для стреляния зверей и птиц. Пораненный немедленно умирает». Характерно, что лук – небольшой и сильным быть не может, а стрела – недлинная и нетяжелая, так что пробойность ее ничтожна. Весь эффект дает только яд. Не менее важна другая деталь: яд приготовлялся осенью. Сила змеиного яда варьирует в зависимости от времени года, и осенью он наиболее опасен. О применении яда у лесных племен Сибири и Дальнего Востока говорит А. П. Окладников, указывая на уменьшение луков и облегчение наконечников стрел в Глазковское время [95, стр. 72]. Но в степи до XIII в. эта техника была неизвестна. Сходным примером является часто встречающееся в «Слове о полку Игореве» слово «харлуг», что объясняется комментатором как «булат» (стр. 406). Замеченная нами монголизация тюркских слов дает право усмотреть здесь слово «каралук» с заменой «к» (тюрк.) на «х» (монг.), т.е. вороненая сталь[52]. Предлагаемое толкование не противоречит принятому, но обращает на себя внимание суффикс «луг» вместо «лык». Такое произношение характерно для архаических диалектов тюркского языка, для домонгольского периода и для XIII в. Например, Кучлуг – сильный, имя найманского царевича [66, стр. 145]. Суффикс «луг» принят в орхонских надписях [85] и в тибетском географическом трактате VIII в. [156а), pp. 137–1531. Подмеченная закономерность фонетической транскрипции позволяет привести еще один довод в пользу большей древности «Слова о полку…» сравнительно с «Задонщиной» [136, стр. 337–344. Ср.: 78.]. В «Задонщине» слово «катун» («царица», переносно «влюбленная») приводится уже с тюркской огласовкой; по монгольской – было бы «хатун». В XIV в. тюркский язык вытеснил в Поволжье монгольский, и русский автор записал слово, как его слышал. А автор «Слова» слышал аналогичные слова от монголов, значит, он писал не позже и не раньше XIII в. Каяла и Калка. Итак, наши изыскания привели к тому, что вероятнее датировать «Слово» XIII в.; но приоритет в этой области принадлежит Д. Н. Альшицу, который привел доказательства того, что «Слово» написано позже 1202 г. [97, стр. 37–41]. Кроме того, можно думать, что автор «Слова» был знаком с Ипатьевской летописью, составленной в 1200 г. [116, стр. 52]. При этом Д. Н. Альшиц высказал предположение, что «Слово о полку Игореве» было написано после первого поражения русских князей от монголов на р. Калке, т.е. после 1223 г., исходя из того, что битвы на Каяле и Калке по ходу событий весьма похожи. С этим следует согласиться, но верхняя дата Д. Н. Альшица – 1237 г., – «после которого этот страстный призыв к единению был бы уже бессмысленным», – не может быть принята, так как она мешает ответить на справедливый вопрос, сформулированный М. Д. Приселковым: «Историку нельзя не остановиться на том факте, что только один из эпизодов полуторавековой борьбы Руси с Половецкой степью, неудачный поход Игоря в 1185 г., почему-то привлек к себе такое напряженное внимание современников… Почему раздался этот призыв? Очевидно, рассказ о военном эпизоде 1185 г. …в свое время затронул какие-то значительные и волнующие темы тогдашней жизни. Вскрыть эти темы – главная задача историка» [116а), стр. 112]. Начнем спорить: «бессмысленным» призыв к борьбе со степняками был не после, а до 1237 г. Половцы находились в союзе с русскими, а монголы были связаны войной на Дальнем Востоке, которая закончилась в мае 1234 г. [15, стр. 230; 39, стр. 453], и войной на Ближнем Востоке, затянувшейся до 1261 г. До тех пор пока дальневосточная война связывала монгольские войска, для Руси никакой опасности не было, а предвидеть победу монголов никто не мог. Кроме того, русские не имели представления о дальневосточных делах до того, как стали ездить в Карокорум. У автора начала XIII в. было еще меньше поводов опасаться степняков, чем у автора XII в., потому что вопрос о походе на запад был решен на специальном курултае летом 1233 г. Зато в сороковых годах призыв к единению князей против восточных соседей был вполне актуален. Две кампании, выигранные монголами в 1237 и 1240 гг., не намного уменьшили русский военный потенциал [92, гл. I]. Например, в Великой Руси пострадали города Рязань, Владимир и маленькие Суздаль, Торжок и Козельск. Прочие города сдались на капитуляцию и были пощажены. Деревенское население разбежалось по лесам и пережидало, пока пройдут враги. Число монголов 300 тысяч – обычное для восточных авторов десятикратное преувеличение. Такого количества войск во всей Монголии не было, а Русь для монголов была третьестепенным (после Китая и Ирана) фронтом. Сама переброска столь большого числа людей из Монголии на Волгу за один только год технически неосуществима. Для 300 тысяч всадников требовалось не меньше 1 миллиона коней, которые не могли идти одной линией. Если же предположить, что они двигались эшелонами, то для второго эшелона не нашлось бы подножного корма. Пополняться же в приаральских степях монголы не могли, так как население там, во-первых, было редким, во-вторых, было враждебно монголам и, в-третьих, еще в 1229 г. под давлением монголов бежало с Яика на Волгу [35а), стр. 207]. Половцы и аланы оттянули на себя около четверти монгольской армии – отряд Мункэ, присоединившийся к Батыю лишь в 1240 г. под стенами Киева. Кроме того, не все русские княжества подвергались разгрому. Смоленск, Полоцк, Луцк и вся Черная Русь не были затронуты монголами, Новгородская республика – тоже. Короче говоря, сил для продолжения войны было сколько угодно, важно было только уговорить князей, которые почему-то на уговоры поддавались плохо. Хотя ход событий битв на Каяле и Калке действительно совпадает, но есть разница. Игорь не убивал вражеских послов, что сделали князья в 1223 г. [110, т. VII, стр. 129; т. X, стр. 89]. При этом очень существенно, что были убиты первые послы, христиане-несториане, а присланные позже послы-язычники отпущены без вреда [20, стр. 145–148; 173, pp. 237–238]. Это обстоятельство в XIII в. было, несомненно, известно, во всяком случае читателям «Слова о полку Игореве». Если мы принимаем предлагаемую Д. Н. Альшицем концепцию иносказания, то следует учитывать и умолчание, которое подразумевалось как намек. Если автор, говоря о 1185 г., подразумевал 1223 г., то он оправдывал первую акцию русских против монголов и призывал к дальнейшей борьбе с ними. Значит, убийство несториан он считал правильным, и здесь таится тот скрытый смысл, который был ясен только политикам и воинам XIII в. Несторианская проблема в конце XII и в XIII в. была для Центральной Азии основной в религиозно-политическом плане. Несторианство начиная с VIII в. вело войну за право существования со многими противниками: манихеями в Уйгурии, буддистами в оазисах Тарима, конфуцианцами в Китае, мусульманами в Средней Азии и шаманистами в Сибири. К началу XIII в. оно стало господствующей религией у кераитов и онгутов в Восточной Монголии, распространенной у уйгуров Турфана, Кучи и Карашара, кара-китаев Семиречья и найманов Алтая, терпимой в Самарканде, Кашгаре, Яркенте и Тангутском царстве, встречалось у меркитов Прибайкалья и других племен Сибири [7; 161, pp. 369–374; 167]. Однако до Руси несториане не доходили, исключая отдельных купцов и караванщиков. Следовательно, хотя русские не могли не знать о существовании на Востоке еретиков, так же как и несториане знали, что на Западе есть ненавистные им халкедониты, до Батыева похода общение между обеими ветвями восточного христианства было случайным. В империи Чингисхана несториане оказались в подчинении у монголов, но, будучи такими же кочевниками, они быстро использовали свою относительно бо?льшую интеллигентность, и их представители заняли ведущее положение в административной системе империи. Тогда они стали силой, отношение к которой каждый из соседей должен был выразить предельно четко. Следовательно, для русского политического мыслителя несторианская проблема стала актуальной лишь после включения Руси в Монгольский улус, и тогда же стало небезопасно поносить религию, пусть не господствующую, но влиятельную. Тогда и возникла необходимость в иносказании, и Калка могла превратиться в Каялу, а татары в половцев[53]. О послах же лучше было помалкивать, как потому, что монголы считали посла гостем, следовательно, особой неприкосновенной, и никогда не прощали предательского убийства посла, так и потому, что напоминать ханским советникам о религиозной ненависти к ним было рискованно. Об этой вражде мы имеем сведения из зарубежных источников. Венгерские миссионеры указывают со слов беглецов-русских, покинувших Киев после разгрома его Батыем и эмигрировавших в Саксонию, что в татарском войске было много «злочестивейших христиан», т.е. несториан [цит. по: 82, стр. 283]. В «Слове» этот вопрос завуалирован, хотя есть намеки на то, что автору его было известно несторианское исповедание (см. ниже). Но ведь «Слово» – литературное произведение, а не история. Ядро и скорлупа. Но если так, то в «Слове» следует искать не прямое описание событий, а образное, путем намека, аллегории, сравнения подводящее читателя к выводам автора. Этот принцип, широко распространенный в новой литературе, применяли и в средние века – например, в «Песне о Роланде» вместо басков поставлены мавры. Такая подмена не шокировала читателя, который улавливал коллизию, воплощенную в сюжете, и воспринимал намеки, делая при этом необходимый корректив. Следовательно, в «Слове» мы не должны отчленить сюжетное ядро, отражающее действительное положение, интересовавшее автора и читателя, от оболочки образов, которые, как во всяком историческом романе или поэме, не что иное, как вуаль. Однако и в образах есть своя закономерность, подсказанная жанром, и они, наряду с сюжетной коллизией, позволяют найти ту единственную дату, когда составление такого произведения было актуально. Призыв, о котором говорилось выше, был адресован главным образом трем князьям: Галицкому, Владимирскому и Киевскому; во вторую очередь призывались юго-западные князья, отнюдь не призывались князья Северской земли и новгородцы, и проявлено особое отношение к Полоцку, о чем скажем ниже. Посмотрим, когда существовала политическая ситуация, отвечавшая приведенному условию. Только в 1249–1252 гг., не раньше, не позже. В эти годы Даниил Галицкий и Андрей Ярославич Владимирский готовили восстание против Батыя и пытались втянуть в союз Александра Ярославича, князя киевского и новгородского. Вспомним также предположение К. Маркса о том, что «Слово» написано непосредственно перед вторжением татар [86, стр. 123]. Поскольку автор «Слова» не мог предсказать вторжения Батыя, то естественнее всего предположить, что он имел в виду вторжение Неврюя 1252 г.[54], которое за год или два предвидеть было несложно. И вряд ли возможно, чтобы такой патриот, как автор «Слова», в том случае, если наша гипотеза правильна и он действительно был современником этих событий, прошел мимо единственной крупной попытки русских князей скинуть власть татарского хана, Но для проверки нашего предположения обратимся к деталям событий и образам князей. Если мы на правильном пути, то детали и описания «Слова» должны изображать ситуацию не XII в., а XIII в. и под масками князей XII в. должны скрываться деятели XIII в. Рассмотрим в этом аспекте обращение к князьям. Прежде всего, Святослав киевский, который отнюдь не был ни грозным, ни тем более сильным. Он и на престол-то попал при помощи половцев и литовцев, и владел он только городом Киевом, тогда как земли находились в обладании Рюрика Ростиславича. Зато Александр Невский был и грозен и могуч. Очень интересен и отнюдь не случаен подбор народов, которые «поют славу Святославлю» после победы над представителем степи Кобяком (стр. 18): немцы, венецианцы, греки и чехи-моравы. Тут точно очерчена граница ареала Батыева похода на запад. Немцы, разбитые при Лигнице, но удержавшие линию сопротивления у Ольмюца, венецианцы, до владений которых дошли передовые отряды татар в 1241 г., греки Никейской империи, при Иоанне Ватаце овладевшие Балканским полуостровом и, поскольку Болгария пострадала от возвращения Батыевой армии, также граничившие с разрушенной татарами территорией, и чехи-моравы, победившие татарский отряд при Ольмюце. Все четыре перечисленных народа – потенциальные союзники для борьбы с татарами в 40-х годах XIII в. Не должно смущать исследователя помещение Никейской империи в ряд с тремя католическими государствами, потому что Фридрих II Гогенштауфен и Иоанн Ватац стали союзниками, имея общего врага – папу, и император санкционировал будущий захват Константинополя греками, опять-таки назло папе, считавшемуся покровителем Латинской империи. И эти четыре народа осуждают Игоря за его поражение. Казалось бы, какое им дело, если бы действительно в поле зрения автора была только стычка на границе. Но если имеется в виду столкновение двух миров – тогда это понятно. Дальше, автор «Слова» считает, что на самой Руси достаточно сил, чтобы разгромить половцев. Вспомним, что того же мнения придерживались Андрей Ярославич Владимирский и Даниил Романович Галицкий в отношении татар. Автор перечисляет князей и их силы и опять-таки рисует картину не XII, а XIII в. Во-первых, владимирский князь, якобы Всеволод, а на самом деле Андрей. У него столько войска, что он может «Волгу веслы раскропити, а Дон шеломы выльяти» (стр. 21). Звать на юг Всеволода Большое Гнездо, врага Святослава и Игоря, более чем странно. А звать владимирского князя в 1250 г. к борьбе со степью было вполне актуально, ибо Андрей действительно выступал против татар и был разбит Неврюем, очевидно, уже после написания «Слова». Надо думать, что надежда на успех у Андрея и его сподвижников была. Дальше идет краткий панегирик смоленским Ростиславичам, союзникам Всеволода Большое Гнездо в 1182 г., с призывом выступать «за обиду сего времени, за землю Русскую» (стр. 22). Смоленск не был разрушен татарами во время нашествия и сохранил свой военный потенциал, и обращаться к смольнянам за помощью в 1249–1250 гг. было вполне целесообразно, тогда как в XII в. они были злейшими врагами черниговских Ольговичей. Столь же уместно обращение к юго-западным князьям, про которых сказано, что у них «паробцы железные под шеломами латинскими» (стр. 23) и «сулицы ляцкие» (стр. 24). Но из перечисления исключены Ольговичи черниговские (стр. 23), потому что они были в 1246 г. казнены Батыем по проискам владимирских князей [см.: 92, стр. 26–28], а Черниговское княжество политически разбито. Самым важным в списке является Ярослав Осмомысл, который высоко сидит «на златокованом столе подпер горы Угорскыи… затворив ворота Дунаю… отворяши Киеву врата, стрелявши с отня злата стола салътани за землями» (стр. 22). Ему тоже предлагается автором «Слова» застрелить «Кончака, поганого кощея» (там же). Если призыв понимать буквально, то это вздор. Ярослав Осмомысл был окружен людьми, которые были сильнее его, боярами, лишившими его не только власти, но и личной жизни. В 1173 г. бояре сожгли любовницу князя, Настасью, а после его смерти в 1187 г. посадили на галицкий престол его старшего сына, пьяницу, а не любимого младшего сына (от Настасьи). К низовьям Дуная, где в 1185 г. возникло сильное валахо-болгарское царство, Галицкое княжество не имело никакого касательства. Никаких «салтанов» Ярослав не стрелял, а догадка о его участии в третьем крестовом походе (стр. 444) столь фантастична, что не заслуживает дальнейшего разбора. Призывать князя, лишенного власти и влияния и умирающего от нервных травм, к решительным действиям – абсурдно. Но если мы под именем Ярослава Осмомысла прочтем – Даниил Галицкий, то все станет на свое место. Венгры разбиты в 1249 г. Болгария после смерти Иоанна Асеня (1241) ослабела, и влияние Галицкого княжества простерлось на юг, доходя, может быть, до устьев Дуная, где в Добрудже жили остатки печенегов – гагаузы, возможно, еще сохранившие кое-какие мусульманские традиции [142, стр. 262]. Разрушенный Киев тоже был под контролем Даниила, и, наконец, его союз с Андреем Владимирским был заключен в 1250 г. и направлен против татар. Сходится все, кроме имени, зашифрованного, без сомнения, сознательно. Так же невероятен в данном контексте Кончак. Почему он «поганый раб»? Чей раб, когда он хан? Почему его называть поганым, если он тесть благоверного русского князя? Кроме того, Кончак в недавнем прошлом привел на золотой стол киевский Святослава, а в 1182 г. был союзником Игоря и Святослава против Всеволода Большое Гнездо и смоленских князей. Допустим, что его так честят за то, что он участвовал в русской усобице, не будучи христианином; но в ней принимали участие литовские язычники на той же стороне, и их за это не осуждает автор «Слова», несмотря на свое уважение к великому князю Всеволоду. Но если мы на место хана Кончака поставим какого-нибудь татарского баскака, например Куремсу или кого-нибудь из ему подобных, то все станет на свое место. Он раб хана, он приверженец одиозной религии [22, стр. 81–101], и в 1249–1250 гг. его, несомненно, следовало стрелять, если стать на позицию автора «Слова». Что же касается литовцев, то с ними можно было повременить, так же как с немцами, венграми и поляками. Насколько правильна была такая позиция – другой вопрос, но и его не обходит автор «Слова», хотя его мнение высказывается сверхосторожно, в связи с темой, не имеющей как будто никакого отношения ни к походу Игоря, ни вообще к Половецкой степи. Полоцкая трагедия. Щитом Руси против ударов с запада был Полоцк. Автор «Слова», много говоря о полоцких князьях, с призывом к ним не обращается. Он скорбит о них. Герой полоцкого раздела «Слова» – Изяслав Василькович – личность загадочная. В летописи он не упомянут, что было бы возможно, если бы он никак себя не показал; но он, по тексту «Слова», отличился не меньше Игоря Святославича: пал в бою с литовцами, а поражение князя повлекло сдачу города (стр. 95). Какого города? Надо думать – Полоцка, в котором в 1239 г. сидел некий Брячислав, после чего сведения о Полоцком княжестве прекращаются [135, т. 2, стр. 181]. Это имя – Брячислав – упомянуто и в «Слове»[55]. Так назван брат погибшего князя, не пришедший своевременно к нему на помощь. И несколько ниже – последнее упоминание земли Полоцкой: «На Немизе (Немане) снопы стелют головами, молотят чепи харалужными, на тоце живот кладуть, веют души от тела. Немизе кровави брезе не бологом бяхуть посеяни, посеяни костьми русских сынов» (стр. 25). Эта вставка композиционно относится к поражению Всеслава в 1077 г. князьями Изяславом, Святославом и Всеволодом Ярославичами (стр. 458). Однако приведенный отрывок в «Слове» поставлен не до вступления Всеслава на киевский престол и его бегства, а после, т.е. после 1069 г. Такой перескок не оправдан, если относить резню на Немиге к временам Всеслава, но если считать упоминание о ней ассоциацией писателя, думающего о своем времени, то эта вставка должна относиться ко времени написания «Слова», т.е., по нашим соображениям, к 40–50-м годам XIII в. А в XIII в. именно такая ситуация и была. Литовцы захватили Полоцкое княжество и простерли свои губительные набеги до Торжка и Бежецка. В 1245 г. Александр Невский нанес им поражение, но в следующем году, когда Ярослав Всеволодович с сыновьями поехал в Монголию, власть захватил Михаил Хоробрит Московский и тут же погиб в битве с литовцами. И так же, как к мифическому, никогда не существовавшему Изяславу Васильковичу, к Михаилу не пришли на помощь братья, осуждавшие его узурпацию. Трагедию Полоцка автор «Слова» заключает самым патетическим возгласом: «О стонати Русской земли, помянувше пръвую годину и пръвых князей!.. Копиа поють!» (стр. 26). Как это не похоже на 1187 г., когда ни Литва, ни половцы реальной угрозы Руси не представляли. Тогда нужно было не ждать спасения с запада, а умерять аппетит галицких и ростовских крамольных бояр, владимирских и новгородских «младших людей» да отдельных особо хищных князей. Но ведь об этом в «Слове» нет ни слова! Автор «Слова» великолепно понимает, что язычники-литовцы его времени – активные враги русских князей и немцев-католиков. Он и упоминает литовцев, но походя, чтобы не отвлекать внимания читателя от главного врага – степных кочевников, т.е., по нашему мнению, татар. Особенно же он скорбит, что не все князья разделяют его точку зрения, и в этом он прав. Наконец, обратим внимание на загадочный фрагмент «Слова»: «Поганый сами победами нарыщуще на Русскую землю, емляху дано по беле от двора» (стр. 18). Д. С. Лихачев правильно отмечает, что половцы дани с русских не брали, но пытается объяснить противоречие литературным заимствованием из «Повести временных лет» под 859 г. и рассматривает «дань» в данном контексте как символ подчинения (стр. 421). Однако и подчинения половцам в XII в. не было и быть не могло. А вот обложение татарами Южной Руси после 1241 г. имело место. Согласно закону 1236 г., введенному канцлером монгольской империи Елюем Чу-цаем, налог с китайцев взимали с очага или жилища, а монголы и мусульмане платили подушную подать. Это облегчение для китайцев Елюй Чу-цай ввел для того, чтобы восстановить хозяйство территорий, пострадавших от войны [15, стр. 264–265; 160, р. 68–69], и, как мы видим, льгота была распространена на русские земли, находившиеся в аналогичном положении. Паломничество князя Игоря. Удальство и легкомыслие Игоря Святославича обошлось Северской земле дорого. Половцы ответили на набег набегом и «взятошася города Посемьские, и бысть скорбь и туга люта, якоже николиже не бывала во всем Посемьи и в Новгороде Сиверском, и по всей волости черниговской, князи изыманы и дружина изымана, избита; города восставахуть и немило бяшеть тогда комуждо свое ближнее, но мнози тогда отрехахуся от душь своих, жалующе по князех своих», – пишет автор Ипатьевской летописи[56]. А автор «Слова» воспринимает события так: «Солнце светится не небесе – Игорь князь в Русской земли. Девицы поют на Дунай – вьются голоси через море до Киева. Игорь едет по Боричеву к святой богородици Пирогощей. Страны ради, гради весели» (стр. 30–31). Разница очевидна. Кому верить? Конечно, летописи! Тем более что, согласно православному обычаю, Игорь мог обращаться с благодарственной молитвой либо непосредственно к Богу, либо к святому, в честь которого он был назван, либо к св. Георгию, освободителю пленных. Ведь не католик же он был, чтобы ставить Деву Марию наравне с Христом! Следовательно, обращение к Богородице имело особый смысл, понятный современникам «Слова», но не замеченный позднейшими комментаторами. Напрашивается мысль, что тут выпад против врагов Богородицы, потому что обращение к ней покрывает все прошлые грехи князя Игоря. А врагами этими не могли быть ни христианизирующиеся язычники-половцы, ни мусульмане, ставящие на одну доску Ису и Мариам, а только несториане, называвшие Марию Христородицей, т.е. простой женщиной, родившей человека, а не Бога. Почитание Марии было прямым вызовом несторианству. И в XII в. поход Игоря, несмотря на его незначительность, был переломным моментом в истории борьбы Ольговичей с Мономаховичами. Игорь Святославич нарушил традицию, установленную его дедом Олегом: дружбу со степью он заменил компромиссом с Мономаховичами, продолжавшимся до 1204 г. [31, стр. 170). Но припутывать Богородицу к междуусобной войне русских князей некстати. Зато, когда Андрей Владимирский и Даниил Галицкий готовили восстание против татар, их противником был не сам Батый, а его сын Сартак, тайный несторианин и явный покровитель несториан [29. Приведена литература.], осмеивавший православных, русских и аланов [120, стр. 117]. Именно в войне с Сартаком на знамени повстанцев не только могла, но и должна была оказаться Богородица, обращение к которой расценивалось как участие в восстании. Когда же, в 1256 г., Сартак был отравлен за свои несторианские симпатии [29, стр. 27, 90], то его дядя Берке, несмотря на то что он перешел в ислам, начал оказывать покровительство православным и в 1262 г. начисто порвал с монголо-персидскими и монголо-китайскими улусами[57], где еще торжествовали несториане. Было бы неверно думать, что конфессиональный момент имел в монгольской империи самостоятельное значение. Нет, исповедания вер играли роль знамен у социальных, племенных и политических группировок, и благодаря такому индикатору мы можем разобраться в причинах распадения монгольской империи, в которую входила и Русь. Но это другая тема, ныне служащая для нас фоном, на котором исследуемый нами памятник находит свое органическое место. Верхней границей написания «Слова» оказывается 1256 г., т.е. смерть Сартака, и, следовательно, единственно вероятной ситуацией, стимулировавшей сочинение антикочевнического и антинесторианского направления, остаются 1249–1252 гг. – трехлетие, когда Русь готовилась к восстанию, подавленному Сартаком Батыевичем и воеводой Неврюем. Несторианство и Древняя Русь[58] (Доложено на заседании отделения этнографии ВГО 15 октября 1964 г.)
Когда мы произносим слово «Византия» без каких бы то ни было пояснений и добавлений, то содержание понятия бывает различным. Может оказаться, что Византия – это Восточная Римская империя, реликт былого величия, на протяжении 1000 лет стремившийся к упадку. Так понимали термин «Византия» и Гиббон, и Лебо, называвший это государство Bas-Empire, и у нас Владимир Соловьев. Может быть, под этим термином подразумевается греческое царство, возникшее как антитеза душной, выродившейся античности, имевшее свои собственные ритмы развития, свои светлые и теневые стороны. Такой видели Византию Ф.Успенский, П.Кулаковский и Шарль Диль. А может быть, Византия просто огромный город, средоточие торговли и образованности, воздвигшийся на берегах голубого моря и окруженный выжженными горами, где полудикое население веками пасло коз и снимало оливки и виноград. Это тоже закономерное понимание термина. Но мы в нашей работе хотим использовать его четвертое значение: Византия – культура, неповторимая и многообразная, выплеснувшаяся далеко за государственные границы константинопольской империи. Брызги ее золотого сияния застывали на зеленых равнинах Ирландии (Иоанн Скотт Эригена), в дремучих лесах Заволжья (Нил Сорский и нестяжатели), в тропических нагорьях вокруг озера Цана (Абиссиния) и в Великой евразийской степи, о которой и пойдет речь. В таком понимании термина, Византия – не только город и страна и даже не только халкедонское исповедание, но целостность, включающая в себя равно православных и еретиков: монофизитов и несториан, христиан и гностиков, маркионитов и манихеев, о которых тоже будет упомянуто. То, что перечисленные течения мысли боролись между собою, не противоречит предложенному значению термина, ибо идейная, да и политическая борьба – тоже вид связи, форма развития. Споры не разъединяли представителей перечисленных учений, а скорее объединяли их, потому что язык употребляемых понятий был одним. Такую систему физики называют устойчивым равновесием. В 277 г. в Гунди-Шапуре принял мученический венец мыслитель и писатель Мани, объявивший себя наследником Христа и Параклетом (Утешителем). Его последователи были вынуждены бежать из Персии, но на Западе манихейство подверглось жестокому гонению и ушло в подполье [159]. На Востоке манихеи нашли приют в Трансоксании и в оазисах вдоль Великого караванного пути [7, стр. 6, 18]. В 431 г. на Вселенском соборе в Эфесе был предан анафеме константинопольский патриарх Несторий, неосторожно заявивший, что «у Бога нет матери». Его победители немедленно вступили в борьбу между собою, но как монофизиты, так и халкедониты были нетерпимы к несторианству. Особенно обострилась вражда после 434 г., когда на соборе в Бит-Запате несторианство было признано господствующим исповеданием персидских христиан. Поддержка персидского шаха для византийских несториан оказалась роковой. В 489 г. император Зинон подтвердил осуждение несториан и закрыл эдесскую школу, где несториане преподавали свое учение. Школа переехала в Персию, в Низиб, а в 499 г. в Ктезифоне возникла несторианская патриархия, расцветшая в VI в. [105]. Из Персии несториане широко распространились по Восточной Азии. В VI в. христиане не без успеха проповедовали свою веру среди кочевых тюрок. Тюрки, захваченные в плен византийцами в битве при Балярате в 591 г., имели на лбах татуировку в виде креста и объясняли, что это сделано по совету христиан, живших в их среде, чтобы избежать моровой язвы [147, стр. 130–131]. Этот факт отнюдь не говорит о распространении христианства среди кочевых тюрок VI в., но позволяет констатировать нахождение христиан в Степи. В 635 г. несторианство проникло в Китай и было встречено правительством весьма благожелательно [165]. Первые императоры династии Тан, Тайцзун и Гаоцзун, покровительствовали христианам и позволяли им строить церкви. Во время узурпации престола императрицей У, связанной с буддистами, на христиан было воздвигнуто гонение, но узурпаторша была быстро лишена власти сторонниками династии Тан. В 714 г. император Сюаньцзун указом запретил в империи Тан буддизм, а в 745 г. разрешил проповедь христианства [148, стр. 105; 167, р. 457]. С этого времени несторианство начало распространяться в Джунгарии, находившейся под контролем империи Тан, и обретать неофитов среди кочевников, главным образом басмалов, но довольно долго его успехи были минимальны. До тех пор пока громада тюркского каганата заполняла центральноазиатскую степь, а тюргешские ханы держали в своих руках Семиречье [161, р. 158–164], среди кочевников не возникало необходимости для пересмотра их идеологических принципов. Мудрый Тоньюкук воспрепятствовал пропаганде буддизма на том основании, что «учение Будды делает людей слабыми и человеколюбивыми» [16, т. I, стр. 274], а тюргешский хан Сулу ответил послу халифа Хишама (724–743): «Среди моих воинов нет ни цирюльников, ни кузнецов, ни портных; если они сделаются мусульманами и будут следовать предписаниям ислама, то откуда же они добудут себе средства к жизни» [7, стр. 9]. Воинственным степнякам принципы городской, регламентированной религии были чужды. Но как только пали оба каганата (744–745), положение изменилось радикально. Старое мировоззрение – племенной культ Неба-Земли и духов-предков – оказалось скомпрометированным, а поборники его физически уничтожались. Победители-уйгуры легко воспринимали новые идеи, приносимые главным образом из Ирана. Вторая половина VIII в. была переломной эпохой в формировании мировоззрения центральноазиатских кочевников. Жестокие распри между родами развалили тюргешский каганат, но столь же беспощадная внутренняя война в Уйгурии закончилась созданием крупной державы, и конфессиональный момент сыграл здесь важную роль. Для начала коснемся политической истории. С 747 г. Уйгурию раздирала внутренняя война, перипетии которой описаны в надписи Моянчура [85а]. Хан Моянчур был вынужден завоевывать свою страну, причем против него выступали и вельможи, и народные массы, и соседние племена: татары и кидани на востоке, чики и кыргызы на севере, карлуки и тюргеши на западе. Последних поддерживала какая-то группа собственно уйгуров, боровшаяся с ханом и названная в тексте надписи «Уч’Ыдук», в переводе – «Три святых», что, по нашему мнению, означает христианскую общину, почитавшую Троицу, ибо в контексте тюркское слово «Ыдук» послужило адекватным переводом христианского понятия «святыня» или «воплощение божества». А если так, то в 752 г. на равнинах Джунгарии разыгрался второй акт войны христианства с гностицизмом, причем на этот раз христианство потерпело поражение [47а]. Поскольку христиане оказались противниками уйгурского хана, то после победы он склонился на сторону манихеев, которые, видимо, его поддержали. Вскоре Уйгурия быстро превратилась в теократическую державу, где правила манихейская община [157]. Хану предоставили только военные дела. Манихеи, оказавшись у власти, проявили такую религиозную нетерпимость[59], что рассорились со всеми соседями: тибетскими буддистами и последователями религии бон, сибирскими шаманистами, мусульманами, китайцами и, уж конечно, с несторианами. Здесь мы не будем прослеживать политическую историю Уйгурии, отметим лишь, что, когда эта страна была сокрушена в 840–847 гг. кыргызами, вместе с ней погибла манихейская община. Опустевшие после ухода уйгуров на юг, степи постепенно заселились монголоязычными племенами. Культурная традиция на время оборвалась, но, как только восстановился кое-какой порядок, несторианство буквально затопило Центральную Азию. В 1007 г. крестились кераиты. Примерно в это же время приняли христианство тюркоязычные онгуты [165, р. 630], лесовики-меркиты [161, р. 246], гузы [7, стр. 18–19] и отчасти джикили [там же, стр. 19–20]. У уцелевшей части уйгуров, обосновавшихся в Турфане, Карашаре и Куче, христианство вытеснило остатки манихейства. Даже среди кара-китаев, пришедших в Семиречье из Юго-Западной Маньчжурии, оказался «некоторый христианский элемент», что дало повод для возникновения в средневековой Европе легенды о первосвященнике Иоанне [7, стр. 25; 148, стр. 441, 446]. Кара-китайские гурханы действительно покровительствовали христианству и даже в такой цитадели ислама, как Кашгар, разрешили учредить несторианскую митрополию (при патриархе Илье III, 1176–1190) [7, стр. 26]. Исключением была лишь Северо-Восточная Монголия, где два сильных и воинственных народа, татары и монголы, остались вне возникшего восточнохристианского единства. Но если Западная Европа почти немедленно узнала о торжестве несторианства над исламом[60], то было бы невероятно, если бы сведения об этом событии не проникли на Русь. Больше того, Черниговское княжество и Тьмутаракань были настолько тесно связаны со Степью [109, стр. 28], что допустить полную неосведомленность их обитателей о взглядах соседей просто невозможно. Правда, до 966 г. караванная торговля, связывавшая Центральную Азию с Европой, находилась в руках еврейских купцов-рахданитов [164, р. 681–682], но после разгрома Хазарии инициатива перешла к уйгурам-несторианам, а вместе с товарами передвигаются идеи. Хотя прямых сведений о соприкосновениях русских православных с тюрками-несторианами нет, правильнее попытаться найти хотя бы косвенные упоминания, нежели полностью отвергать наличие русско-азиатских культурных связей в XII в. Где же они? В «Слове о полку Игореве» [130. В дальнейшем: «Слово…»] четыре раза упоминается загадочный персонаж Троян. Литература об этом слове или термине огромна, но, к счастью, сведена академиком Н. С. Державиным в систему, допускающую ее обозрение [24]. Н. С. Державин выделил четыре направления толкований слова «Троян»: 1) мифологическое (Буслаев, Квашнин-Самарин, Барсов): Троян – славянское языческое божество; 2) символическое (Полевой, Бодянский, Забелин, Потебня, Костомаров): Троян – философско-литературный образ; 3) историко-литературное (Вяземский, Bс. Миллер, А. Веселовский, Пыпин): общее в этом направлении – отрицание Трояна как персонажа древнерусской мысли, либо заимствование образа из византийских и южнославянских преданий о Троянской войне, либо просто увлечение «старыми словесами, найденными автором „Слова“ в старых болгарских книжках» (Вс. Миллер); 4) историческое (Дринов, Максимович, Дашкевич и др.): Троян – либо римский император Траян, либо русские князья, персонифицированные в божество. Эта схема представляет интерес для истории вопроса, но для того, чтобы разобраться в самом предмете, она слишком запутанна и аморфна. Гораздо четче классификация А. Болдура [17], выделившего три варианта гипотез, бытующих на сегодня: 1) Троян – римский император Траян; 2) Троян – славянское божество; 3) Троян – русские князья XI–XII вв. (триумвират): киевский, черниговский, переяславский. Последний вариант всерьез рассматривать не стоит. Критика этих направлений содержится в упомянутой статье А. Болдура, предлагающего свою оригинальную гипотезу: Троян – имя императора Траяна, перенесенное на легендарного царя Мидаса южными славянами, у которых бытует сказка, похожая на миф о Мидасе и его ослиных ушах [17, стр. 8–11, 22]. Не входя в разбор гипотезы в части, касающейся фольклора балканских славян, следует отметить, что она отнюдь не проливает света на упоминания о Трояне в контексте «Слова о полку Игореве», ни с учетом исторической обстановки описанного события (похода и разгрома Игоря), ни без него. Достаточно отметить, что с этой точки зрения «земля Трояна» – Румыния, тогда как в «Слове» говорится о том, что «обида вступила на землю Трояню», по поводу контрнабега половцев, когда был сожжен город Римов и осажден Путивль. А «вечи / века Трояновы» неизбежно воспринимаются как литературная метафора без смысловой нагрузки [там же, стр. 34–35]. Признавая за статьей А. Болдура историографическое значение, следует считать итогом научного исследования исторический комментарий Д. С. Лихачева к «Слову о полку Игореве». Исчерпывающий разбор Д. С. Лихачева показывает, что под именем Троян подразумевалось божество, которое Д. С. Лихачев считает языческим (стр. 385–386). Оно, конечно, не православное, но подождем с выводом. Кроме «Слова», Троян упоминается в «Хождении Богородицы по мукам» (XII в.) в таком контексте: «И да быша разумели многие человеци, и в прелесть велику не внидуть, мняще богы многы: перуна и Хорса, Дыя и Трояна» (там же). Однако вопрос о том, откуда могло явиться само название бога Трояна, Д. С. Лихачевым оставлен открытым. Разберем тексты. В первом случае последователем Трояна назван Боян (стр. 11, 78), который «рыща в тропу Трояню чресь поля на горы». Это последнее выражение объяснено Д. С. Лихачевым как «переносясь воображением через огромные расстояния» (стр. 78), но попробуем понять это буквально, т.е. считать, что источник веры в Трояна лежит на горах за полями. Поля – в данном случае Половецкая степь, а горы – или Кавказ, или восточная окраина Кыпчакской степи – Тянь-Шань. Заметим это! Во втором случае названа «земля Трояня», в которую после поражения «вступила обида» (стр. 17). Считается, что это Русская земля, но скорее здесь Черниговское княжество, которое только и пострадало от контрнабега половцев. Во всяком случае, допустимы оба толкования. И наконец, самое главное: «вечи (века) Трояновы», т.е. линейный счет времени, эра. «На седьмом веке Трояна» Всеслав ударил древком копья о золотой стол Киевский (стр. 25). Это было в 1068 г., значит, начало «эры Трояна» падает на V в., до 468 г. А теперь сопоставим черты Трояна с теми данными, которые нам известны о центральноазиатских несторианах. «Троян» – буквальный перевод понятия «Троица», но не с греческого языка и не русским переводчиком, а человеком, на родном языке которого отсутствовала категория грамматического рода. То есть это перевод термина «Уч'Ыдук», сделанный тюрком, на русский язык. Можно думать, что переводчик не стремился подчеркнуть тождество «Трояна» с «Троицей». Эти понятия для него совпадали не полностью, хотя он понимал, что то и другое относится к христианству. Рознь и вражда между несторианством и халкедонитством в XII–XIII вв. были столь велики, что русские князья в 1223 г. убили татарских послов-несториан [20, стр. 145–148; 173, р. 237–238], после чего несторианские священники отказывали православным в причастии, хотя католиков к евхаристии допускали [125, стр. 161]. Начало «эры Трояна» падает на эпоху, когда учение Нестория было осуждено на Эфесском соборе 431 г. И снова проклято там же в 449 г. (Эфесский разбой). Окончательно анафема упорствовавшим несторианам была произнесена на Халкедонском соборе 451 г. От репрессий они могли избавиться лишь путем отречения от своего учителя, в борьбе с которым православные и монофизиты были единодушны. В 482 г. император Зинон издал эдикт Энотикон, содержащий уступки монофизитам и подтверждение анафемы несторианам, которые были вынуждены эмигрировать в Персию [73, стр. 441–447]. В промежутке между Эфесским и Халкедонским соборами лежит дата, от которой шел отсчет «веков Трояна». Такая дата могла иметь значение только для несториан. Обратимся к выражению «земля Трояня» (стр. 17). Черниговское княжество обособилось от Русской земли после того, как Олег Святославич, князь-изгой, выгнал из Чернигова Владимира Мономаха и обеспечил своей семье право на княжение. При этом он вступил в конфликт не только с князьями Мономашичами, но и с киевской митрополией [135, стр. 379]. Для того чтобы удержаться на престоле, ему нужна была не только военная, но и идеологическая опора. Полоцкие князья в аналогичном положении находили опору в языческих традициях, но это было невозможно на юге, так как Киевское и Черниговское княжества были христианизированы [69, стр. 84–104]. В этой связи положение Олега Святославича оказалось предельно трудным: его схватили православные хазары, держали в тюрьме православные греки, ограбили и гнали из родного дома православные князья Изяслав и Всеволод, хотел судить митрополит киевский; ему ли было не искать другого варианта христианской веры? И тут его друг («Олега коганя хоть», стр. 30) Боян нашел путь «чрес поля на горы» (стр. 11), туда, где были полноценные христиане и враги врагов Олега. Самое естественное – предположить, что черниговский князь этой возможностью не пренебрег и это обусловило вражду киевлян к его детям, Всеволоду и Игорю. Открытого раскола, видимо, не произошло. Дело ограничилось попустительством восточным купцам и, может быть, даже монахам, симпатией к ним, как мы бы сказали – ориентацией на несторианство. Поэтому в официальные документы не попали сведения об уклоне в ересь князя, второго по значению. Но ход событий в таком аспекте получает объяснение, равно как и приведенные выше темные фрагменты «Слова». Теперь вернемся к уже цитированному тексту из «Хождения Богородицы по мукам». Там славянские языческие боги поставлены в паре: Перун и Хоре. Так же в паре идут Троян и Дый. Принято считать, что Дый – это «Deus», латинское название бога, Зевс, Юпитер [17, стр. 30], но тогда главным здесь является то, что Дый – бог, для русских чужой. А поскольку он в паре с Трояном, то это качество относится и к последнему. Признавая, что Дый – название нерусского божества, укажем, однако, что в западноперсидском языке это слово звучало «Див», в восточноперсидском – «Дэв», а в кыпчакском наречии тюркского языка (например, в казахском) – «Дыу». Последнее совпадает с фонетической записью русского автора XII в., и нет никаких оснований не считать, что это слово было услышано русским из уст половца. Тогда сопоставление Дыя с Трояном в одной паре имеет реальный смысл: славянским божествам противопоставлены восточные, степные божества, причем то из них, которое является христианским, – Троян – таковым не признается, потому что исповедание его было продано анафеме, извергнуто из церкви и нашло приют у народа, который древние русские близким себе не считали. Политические контакты русских с половцами в XII в. не влекли за собой ассимиляции. Но воззрения кочевников были русским знакомы. И вот тем более примечательно, что в «Слове о полку Игореве» это слово встречается не в тюркском или разговорном персидском, а в литературном персидском звучании: «див». Так древние персы называли языческие божества туранских кочевников, и в этом же значении употребляется слово «див» в русском средневековом памятнике (стр. 393–394). Див – враг Трояна. Сначала он предупреждает врагов князя Игоря о начавшемся походе (стр. 12), потом вместе с разъяренными половцами вторгается в Русскую землю (стр. 20, 90). Короче говоря, он ведет себя так, как он вел себя относительно героев «Шахнаме». Но тут встает вопрос: почему автор «Слова» называет его «див», а не «дый». Вероятно, потому, что он слышал это название из уст человека, говорившего на литературном персидском языке. Таковыми в XII–XIII вв. были только несториане, сохранившие персидский язык с тех пор, как персидские шахиншахи позволили им устроить университет в Несевии и использовали сирийских грамотеев для канцелярской службы. В противном случае звучание этого слова было бы иным. Итак, мьг подошли к решению поставленного выше вопроса. Несторианство было в XII–XIII вв. на Руси известно настолько хорошо, что читатели «Слова» не нуждались в подробных разъяснениях, а улавливали мысль автора по намекам. Вместе с тем упоминания о несторианстве автор почему-то вуалирует, говорит о нем походя и без симпатии. Если первое наше наблюдение может относиться равно к XII и к XIII вв., то второе понуждает нас склониться в пользу датировки «Слова» XIII в.[61] по следующим соображениям, основанным на исторической дедукции. Между XII и XIII вв. плавного перехода не было. Жестокий спазм на Западе и Востоке положил резкую грань между двумя эпохами, за какие-нибудь три года изменил всю расстановку сил на Евразийском континенте. Эта грань прошла по 1204 г. В XII в. Константинополь был Парижем средневековья. Он был «знаменит своими богатствами, но в действительности, – писал Эвд де Дейль, – его сокровища превышают славу о них». А Роберт де Клари утверждал, что «две трети мирового достояния находятся в Константинополе, а одна треть рассеяна по всему свету» [56, стр. 114]. И вот 12 апреля 1204 г. Константинополь был взят приступом, и Византийская империя прекратила свое существование. Рыцари-крестоносцы оправдывали себя тем, что они совершили богоугодное дело, ведь греки были схизматики, еретики, пожалуй, хуже мусульман и язычников. Культурно-исторический принцип возобладал над догматическим, и католичество, не сумев победить ислам, объявило войну православию[62]. Папа Иннокентий III, который сначала был против войны с христианами и грозил крестоносцам отлучением, в 1207 г. встал (или вынужден был встать) во главе нового натиска на восток[63]. В этот год католическим дипломатам удалось заключить соглашение с болгарским царем, что спасло Латинскую империю, а от Польши, Ордена, Швеции и Норвегии папа потребовал, чтобы они перестали ввозить на Русь железо. Политическая близорукость русских князей обеспечила успех католическому проникновению. В 1212 г. ливонский епископ Альберт заключил союз с полоцким князем против эстов, а затем женил своего брата на дочери псковского князя, после чего в 1228 г. в Пскове появилась пронемецкая боярская группировка [94, стр. 77; 137, стр. 28]. В 1231 г. папа Григорий IX предложил Юрию II князю Владимирскому и всея Руси принять католичество [143, стр. 30–31], в ответ на что Юрий выслал из Руси доминиканских монахов. После этого началось наступление на Новгород и Псков силами шведов, немцев и литовцев. В 1239 г., когда обострились отношения латинян с Болгарией, Наржо де Туси заключил союз, скрепленный браком, с одним из половецких ханов, чтобы зажать Болгарию и Русь в клещи. К. Маркс считал, что «это последнее слово глупости рыцарей-крестоносцев» [5, стр. 205], и, вообще, был прав, хотя в XIII в. просвещенные европейцы считали, что завоевание Руси будет не труднее покорения Пруссии [125, стр. 108]. По существу, война, начавшаяся в 1204 г., была одной из первых войн за приобретение колоний, а религиозная окраска ее соответствовала духу времени. Но на юге победы Ватаца, а на севере подвиги Александра Невского уничтожили все усилия католиков. Первое наступление Европы на Восток захлебнулось. В то же самое время в монгольских степях Чингисхан победил и завоевал два наиболее сильных и культурных ханства: кераитское в 1203 г. и найманское в 1204 г. Но Чингисхан обошелся с побежденными кераитами и найманами куда гуманнее, чем Балдуин Фландрский с греками. Кераиты и найманы умножили силы монгольской армии, царевна Суюркуктени вышла замуж за любимого ханского сына Тулуя [166] и сохранила при себе несторианскую церковь с клиром и имуществом [166, стр. 347]. Дети ее Мункэ, Хубилай, Хулагу и Ариг-буга были воспитаны в духе уважения к христианской религии, хотя по монгольской ясе не могли быть крещены[64]. Для православия в торжестве несторианства не было ничего хорошего, так как кочевые священники в XIII в. еще помнили, что основатель их веры принял от греков мученический венец[65]. Головокружительный поход Батыя от Аральского моря до Адриатического отдал во власть монголов всю Восточную Европу, и можно было думать, что с православием все кончено. Но обстоятельства сложились так, что события потекли по иному руслу. Во время похода Батый рассорился со своими двоюродными братьями: Гуюком, сыном самого верховного хана Угэдэя, и Бури, сыном великого хранителя ясы (главного прокурора, сказали бы мы) Джагатая. Отцы стали на сторону Батыя и наказали опалой своих зарвавшихся сынков, но, когда умер в 1241 г. Угэдэй и власть попала в руки матери Гуюка ханши Туракины, дружины Гуюка и Бури были отозваны, и Батый оказался властителем огромной страны, имея всего 4000 верных воинов, при сверхнатянутых отношениях с центральным правительством. О насильственном удержании завоеванных территорий не могло быть и речи. Возвращение в Монголию означало более или менее жестокую смерть. И тут Батый, человек неглупый и дальновидный, начал политику заигрывания со своими подданными, в частности с русскими князьями Ярославом Всеволодовичем и его сыном Александром. Их земли не были обложены данью [92, стр. 12, 23]. Но против Гуюка выступили монгольские ветераны, сподвижники его деда, и несториане, связанные с детьми Тулуя. Хотя в 1246 г. Гуюка провозгласили великим ханом, но настоящей опоры у него не было. Гуюк попытался найти ее там же, где и его враг Батый, – среди православного населения завоеванных стран. Он пригласил к себе «священников из Шама (Сирии), Рума (Византии), Осов и Руси» [122, т. II, стр. 121 ] и провозгласил программу, угодную православным, – поход на католическую Европу[66]. Но Гуюку не повезло. Вызванный для переговоров, князь Ярослав Всеволодович был отравлен ханшей Туракиной, особой глупой и властной. Туракина просто не соображала, что она делает. Она поверила доносу боярина Федора Яруновича, находившегося в свите владимирского князя и интриговавшего против него в своих личных интересах [135, т. II, стр. 151]. Сочувствие детей погибшего князя перекачнулось на сторону Батыя, и последний получил обеспеченный тыл и военную помощь, благодаря чему смог выступить в поход на великого хана. Заигрывания Гуюка с несторианами тоже оказались неудачными. В начале 1248 г. Гуюк внезапно умер, не то от излишеств, не то от отравы. Батый, получивший перевес сил, возвел на престол сына Тулуя – Мункэ, вождя несторианской партии, а сторонники Гуюка были казнены в 1251 г. Сразу же изменилась внешняя политика монгольского улуса. Наступление на католическую Европу было отменено, а взамен начат «желтый крестовый поход» [174, р. 72], в результате которого пал Багдад (1258). Батый, сделавшийся фактическим главой империи, укрепил свое положение, привязал к себе новых подданных и создал условия для превращения Золотой Орды в самостоятельное ханство, что и произошло после смерти Мункэ, когда новая волна смут разорвала на части империю Чингисидов. Несторианство, связанное с царевичами линии Тулуя, оказалось за пределами Золотой Орды. После завоевания Руси Батыем и ссоры Батыя с наследником престола, а потом великим ханом Гуюком (1241) русскими делами в Золотой Орде заведовал сын Батыя – Сартак. Христианские симпатии Сартака были широко известны, и даже есть данные, что он был крещен, разумеется по несторианскому обряду [29, стр. 110; 139, стр. 18–19]. Однако к католикам и православным Сартак не благоволил [125, стр. 117], делая исключение лишь для своего личного друга – Александра Ярославича Невского. В этих условиях прямые нападки русского писателя на несторианство были опасны, а вместе с тем предмет был настолько общеизвестен, что читатель понимал с полуслова, о чем идет речь. Например, достаточно было героя повествования, князя Игоря, заставить совершить паломничество к иконе Богородицы Пирогощей, чтобы читатель понял, что этот герой вовсе не друг тех крещеных татар, которые называли Марию Христородицей, а тем самым определялось отношение к самим татарам [45, стр. 78–79]. Хотя цензуры в XIII в. не было, но агитация против правительства и тогда была небезопасна, а намек позволял автору высказать свою мысль и остаться живым. Такое положение продолжалось до смерти Сартака в 1256 г., после чего Берке-хан перешел в ислам, но позволил основать в Сарае епархию в 1261 г. и благоволил православным, опираясь на них в войне с персидскими ильханами, покровителями несторианства. Несторианская тема для русского читателя стала неактуальной. Вот почему XIII в. следует считать эпохой, когда интерес к несторианству был наиболее острым, и, следовательно, отзвуки его должны были появляться в литературе соседних народов. Они и встречаются у католических, мусульманских и армянских авторов, там, где эти упоминания не могли вызвать осложнений с властью. В России они завуалированы, и отыскать их можно лишь путем сложной дедукции. Но, может быть, наша концепция неправильна и связи между перечисленными выше событиями нет? Попробуем проверить наши заключения доказательством от противного, считающимся в логике достаточным. 1) Середина VIII в. Известно: а) в Уйгурии была внутренняя война; б) после победы Моянчура к власти пришла манихейская община; в) несториане в это время уже распространились от Ирана до Китая по линии караванного пути и жили в степи, среди тюркских народов; г) после падения манихейской Уйгурии несториане обратили в свою веру почти всех центральноазиатских кочевников до границ тайги. Так могли ли они не участвовать в войне 747–761 гг., где решалось, чья вера возобладает? И могли ли они не защищать себя от заклятых врагов – манихеев? В истории создания Уйгурского ханства, поскольку она дана в надписи Моянчура, есть лакуна – лозунг и программа тех уйгуров, которые трижды восставали против хана. Она восполняется только тем, что мы должны предположить наличие в эту эпоху антиманихейской группировки в Степи. Поскольку ни мусульмане, ни буддисты в событиях участия не принимали, остаются только несториане, а приведенные нами выше позитивные аргументы, как бы мало их ни было, подтверждают нашу реконструкцию событий. Прямых указаний источников нет, но ведь от VIII в. дошло так мало письменных сведений по Центральной Азии, что построить только на их основании связную картину событий до сих пор не удалось никому. 2) Середина XII в. Бесспорно, что Западная Европа узнала о существовании центральноазиатских несториан, но сведения могли просочиться лишь через Византию и Русь. Допустить, что на Руси ничего не знали о несторианах, невозможно. А если знали, то как-то относились к ним, и это должно было отразиться на истории культуры Древней Руси, хотя бы в самой слабой степени. 3) Все католические и мусульманские авторы, говоря о монгольской империи XIII в., подчеркивают: а) крайнюю активность несторианской церкви и б) наличие в ставке хана большого количества русских. Можно ли допустить, что Ярослав Всеволодович и Александр Ярославич Невский, в то время когда они искали способов спасения Русской земли от монголов и немцев, игнорировали этот факт? И можно ли думать, что русские монахи, переводившие с греческого целые библиотеки, забыли о решениях Эфесского, Халкедонского и Константинопольского соборов? Конечно, нет! Следовательно, надо искать, пусть не в текстах, а в намеках и сочетаниях событий, ту пружину, которая повернула ход событий в Восточной Европе, оторвала Золотую Орду от Монгольского улуса и спасла половину русских земель от католического нажима на Восток. И теперь мы обязаны вернуться к первому, основному вопросу, поставленному вначале: правомочна ли предложенная нами система классификации явлений истории культуры, то есть, можно ли рассматривать центрально-азиатское христианство как продолжение византийской культуры за границами византийской империи? Конечно, кочевые басмалы, кераиты и найманы мало походили на константинопольских патрикиев, а степи Джунгарии не имели никакого сходства с садами Фракии и Пелопоннеса. Это-то ясно, но сходство, крайне важное, возникало в исторических коллизиях, в расстановке сил, в характере споров и хранении традиций. Значение историко-культурных нюансов для понимания исторического процесса огромно. Именно благодаря этим нюансам, можно восстановить живую действительность полнее и точнее, чем по мертвым памятникам материальной культуры. Диспуты учеников антиохийца Сатурнила с современниками Юстина Философа и Иринея Лионского нашли продолжение в пустынях Джунгарии и степях Монголии с той лишь разницей, что спор решался не тонкой диалектикой, а длинным копьем и острой саблей. Трагедия, первый акт которой был разыгран в Эфесе, продолжалась в боях на берегу Калки и в роскошных юртах ханши Суюркуктени и царевича Сартака… Эпилог ее находится за хронологической гранью нашего повествования и может составить предмет отдельного исследования (мы имеем в виду гибель несторианской церкви во второй половине XIII в., произошедшую при участии архиепископа Китая Монте Корвино). Всюду мы встречаем сочетания обстоятельств, напоминающие исходные позиции, и это одно позволяет уловить в разнообразных событиях то общее, что позволяет видеть в них целостность, которую позволительно назвать византийской культурой. Эпоха Куликовской битвы[67] Шестьсот лет тому назад, 8 сентября 1380 года, рать Дмитрия Ивановича, великого князя Московского и Владимирского, столкнулась на берегу реки Непрядвы с войском темника Мамая и одержала полную победу, после чего начался подъем государственности и культуры Великороссии. Это всем известно. Но кто, с кем и из-за чего воевал? И почему одна битва стала началом столь грандиозного процесса? И что ей предшествовало? Мы начнем рассказ о Куликовской битве с начала XIII века. В 1200 году Русская земля была страной изобильной, культурной и не угрожаемой ниоткуда. Византия, унаследовавшая от воинственных императоров династии Комнинов богатство и блеск образованности, дружила с единоверной Русью, не посягала на ее границы. На Западе росла мощь рыцарства и купеческой Ганзы, но барьер из литовцев, леттов, ливов и эстов предохранял русские княжества от агрессии немецкой и датской. Половцы, разгромленные Владимиром Мономахом, искали дружбы русских князей, крестились в православную веру целыми родами и отражали набеги сельджуков, представителей «мусульманского мира», в это время раздробленного на многочисленные султанаты. Казалось, что благоденствие «украсно-украшенной» Русской земли будет продолжаться вечно, но эти слова извлечены из сочинения XIII века, называющегося «Слово о погибели Русской земли». Автор этого трактата знал, что описывает он «золотую осень». Хотя летопись «Повесть временных лет» начинает русскую историю с 859 года, но подлинная история – история славяноруссов (полян и россомонов) – известна уже в IV веке, а фактически процесс славянского этногенеза[68] начался во II веке. В XIII веке сила инерции первоначального взрыва этногенеза была на излете, что и отметил другой древнерусский автор в «Слове о полку Игореве», описывая княжеские усобицы. Усобицы – это феодальные войны. Они велись повсюду: между баронами – во Франции и между эмирами – в Сирии, в Индостане – между раджапутами (князьями) и в Германии – между герцогами Священной Римской империи, в Японии – между знатными родами Минамото и Тайра и в Англии – между королями и принцами крови. Хотя везде они имели разное значение для страны и народа, но только на Руси XIII века они повели к трагическому исходу. Этногенез отличается от социального развития тем, что этот процесс прерывист и строго локализован в каждом отдельном случае. Однако все этногенезы похожи друг на друга тем, что они проходят одни и те же фазы: консолидации системы, «энергетического перегрева», надлома и инерционную фазу, при которой происходит накопление материальных и духовных благ при снижении мужества, инициативности и жертвенности как норм поведения для подавляющего большинства популяции. Этот упадок часто сменяется новым взрывом энергии, страсти, творчества и даже безрассудства, ведущего к гибели людей, но одновременно и к победе их идеалов, и к процветанию государств, создаваемых их подвигами. Именно такой взрыв испытали в XII веке монголы и маньчжуры-чжурчжэни, и он был подобен тем, какие привели в движение арабов в VII веке, французов, немцев и скандинавов в IX веке, а до них славян и готов во ? веке, двинув эти только что сложившиеся этносы либо на окраину Европы – в Испанию, либо со склонов Карпат в Восточную Европу, от лазоревых волн Адриатики до седых валов Балтики. В XII веке две группы разрозненных племен сплотились в два могучих этноса, схватившихся насмерть друг с другом. Сначала торжествовали чжурчжэни, затем военное счастье улыбнулось монголам. В 1237–1241 годах Батый огнем прошел через Россию, после чего его войска отошли в прикаспийские степи. Точно так же, как через Русь, ордынцы прошли через Польшу и Венгрию, одержали победы при Лигнице и Шайо, но затем отошли на левый берег Волги, где им не угрожали контрудары побежденных, но не покоренных народов. До 1260 года они везде одерживали победы, а к 1279 году закончили завоевание Южного Китая. Как это могло произойти? Очевидно, в успехах кочевников «повинны» не только победители, но и побежденные. Но и в Монгольском улусе было очень неблагополучно. Для проведения западного похода Батый получил, кроме 4000 воинов собственных, войска трех своих дядей: верховного хана Угэдэя, «хранителя ясы» (нечто вроде обер-прокурора) Джагадая и правителя собственно монгольских земель Тулуя, младшего сына Чингиса. Сын Угэдэя, Гуюк, и сын Джагатая, Бури, во время похода поссорились с Батыем так, что ему пришлось выслать их на родину, где отцы подвергли их опале. Но после смерти Угэдэя в 1241 году Гуюк оказался претендентом на престол, что грозило Батыю смертью, так как войска Гуюка и Бури ушли домой и у него осталось всего 4000 воинов. По монгольскому праву хан – должность выборная. Выбирали по установившейся традиции царевичей Чингисидов, но решающее слово произносило войско, собиравшееся для этой цели на курултай. А пока хан не выбран, никто не имел права что-либо решать. Выборы Гуюка затянулись до 1246 года, и это спасло жизнь Батыю. Предыдущие пять лет Батый употребил на то, чтобы подружиться с русскими князьями, в руках которых были денежные и людские резервы. То же самое стремился сделать Гуюк, и великий князь Ярослав Всеволодович, от позиции которого зависела судьба монгольской империи, стал выбирать себе подходящего хана в союзники. Сначала его симпатии склонились на сторону Гуюка, но во время переговоров в ставке будущего великого хана один из бояр свиты русского князя по личной злобе оговорил Ярослава. Доверчивая сибирячка, ханша Туракина, мать Гуюка, отравила Ярослава. Это оттолкнуло сыновей погибшего, которые договорились с Батыем, после чего последний внезапно обрел силу, позволившую ему открыто выступить против Гуюка. В 1248 году Гуюк умер при невыясненных обстоятельствах, а Батый в 1251 году посадил на престол своего друга и сподвижника Мункэ, оставив за собой должность главы ханского народа. Сторонники Гуюка и Бури были казнены. Казалось бы, русским князьям не было смысла спасать своего поработителя Батыя. Так зачем же они это сделали? Разгадку этого странного поведения мы найдем не в летописях и житиях, а в анализе международного положения Руси XIII века, а также стран, сопредельных с Русью, при учете широкой исторической перспективы. За двести лет до описываемых событий Западная Европа только начинала свой экономический и культурный подъем. В XI веке европейское рыцарство и буржуазия под знаменем римской церкви начали первую колониальную экспансию – крестовые походы. Она окончилась неудачей. Сельджуки и курды выгнали крестоносцев из Иерусалима и блокировали их города на побережье Средиземного моря. Тогда крестоносцы стали искать добычу полегче. В 1204 году они захватили Константинополь, объявив греков такими еретиками, «что самого бога тошнит». Одновременно они начали продвижение в Прибалтике, основали Ригу и подчинили себе пруссов, леттов, ливов и эстов. На очереди был Новгород Александр Невский двумя победами остановил натиск шведов и крестоносцев, но ведь Прибалтика была страшна не сама по себе. Она являлась плацдармом для всего европейского рыцарства и богатого Ганзейского союза северонемецких городов. Силы агрессоров были неисчерпаемы, тем более что искусной дипломатией они привлекли на свою сторону литовского князя Миндовга и натравили литовцев на Русь. Конечно, на Руси было много храбрых людей, богатых городов, обильных угодий, но удельная дезорганизация препятствовала консолидации сил, и город за городом становился жертвой врага: Юрьев, Полоцк. А ведь это были форпосты Руси! И тут в положении, казавшемся безнадежным, проявился страстный до жертвенности гений Александра Невского. За помощь, оказанную Батыю, он потребовал и получил помощь против немцев и германофилов, в числе которых оказался его брат Андрей, князь Владимирский, сын убитого ордынцами Ярослава. В 1252 году Андрей был изгнан с родины татарскими войсками, и вскоре затем остановилось немецкое наступление на Русь. Жизнь князя Александра была исключительно трудной. Он дважды (в 1240 и 1242 годах) спас Новгород от позорной капитуляции, отогнал литовцев, захвативших даже Бежецк и победивших московского князя Михаила Хоробрита, но за это (!) новгородцы изгоняли его из города, а владимирцы передались его бездарному брату Андрею. Александр потерял отца, отравленного в ставке хана Гуюка, и, наконец, был вынужден казнить своих земляков, чтобы не дать им убить монгольских послов, ибо монголы страшно мстили за гостеубийство как за худшую форму преступления. Он нарушал каноны православия в понимании того времени, потому что пил кумыс и ел конину, находясь в гостях у Батыя. И он побратался с сыном завоевателя – Сартаком, а после его гибели помирился с его убийцей – ханом Берке. И все свои поступки князь оправдывал одной фразой: «Больше любви никто же не имет, аще тот, кто душу положит за други своя». Зато после смерти Александра, когда немецкие рыцари в 1269 году снова решили напасть на Новгород, чтобы разграбить этот богатейший на Руси город, оказалась весьма полезной поддержка небольшого татарского отряда. Узнав о появлении степняков, немцы оттянули войска за реку Нарову и просили мира, «зело бо бояхуся и имени татарского»: католическая агрессия захлебнулась. И все-таки героический гений Александра Невского спас Русскую землю лишь от западных завоевателей. Обывательский эгоизм, взращенный в тепличных условиях изолированной Руси, был в XII–XIII веках присущ и князьям и старцам градским, дружинникам и смердам. Именно этот этнический стереотип поведения был объективным противником Александра и его ближних бояр, то есть боевых товарищей. Но сам факт наличия такой контроверзы показывает, что наряду с процессами распада появилось новое поколение – героическое, жертвенное, патриотическое. Иными словами, появились люди, ставящие идеал (или далекий прогноз) выше своих личных интересов или случайных капризов. Пусть их в XIII веке были единицы, в XIV веке их дети и внуки составили уже весомую часть общества и были затравкой нового этноса, впоследствии названного «великороссийским». Взрыв этногенеза – явление стихийное, связанное с тем или иным регионом и потому захватывающее разные этнические субстраты. Так и здесь, не только русичи, но и литовцы проявили незаурядную активность, и в эти же десятилетия в западной части Малой Азии сложился этнос турков-османов. Но общей между этими новорожденными этносами была только повышенная активность, или, как теперь ее называют, пассионарность (страстность), а культурные традиции, экономические отношения и социальные структуры были во всех случаях оригинальны. Поэтому литовцы, османы и русские имели свои неповторимые судьбы. А не затронутое этническим взрывом Поволжье находилось в состоянии быстрого и неотвратимого упадка под нажимом чужой культуры купеческих городов и оседлых аборигенов. В Золотой Орде тоже шли процессы этногенеза. 20 тысяч монголов улуса Джучиева рассеялись по трем ордам: Большой, или Золотой, на Волге, где правили потомки Батыя; Белой – на Иртыше, доставшейся старшему брату Батыя Орде-Ичэну; Синей орде хана Шейбана, кочевавшей от Аральского моря до Тюмени. При таком рассредоточении дезинтеграция наступила быстро, и на начало XIV века монголы смешались с половцами настолько, что стали неразличимы. И тогда на них навалилась культурная сила ислама, столь же активная, как на Западе была сила католицизма. Некоторые ханы: Берке, Шейбан, Туда-Менгу – принимали ислам лично, не принуждая подданных следовать их примеру. Но в 1312 году царевич Узбек, захватив престол, объявил ислам государственной религией, обязательной для всех его кочевых подданных. Монгольские нойоны отказались «принять веру арабов». Тогда Узбек казнил всех неподчинившихся, в том числе семьдесят царевичей-чингисидов. Сопротивление реформе шло до 1315 года, когда погиб хан Белой орды Ильбасан. Русские современники отнеслись к этому грандиозному перевороту сверхсдержанно. В летописи по этому поводу имеется лишь одна фраза: «…Озбяк сел на царство и обесерменился» (Симеон, 1313). Невозможно допустить, чтобы летописец не понял грандиозности событий, превративших кочевую державу в заурядный мусульманский султанат. Но говорить об этом он не хотел. Вероятно, у него были к тому достаточные основания: у хана были очень длинные руки. Отношения между Золотой Ордой и Русью при Узбеке изменились радикально. Вместо этнического симбиоза появилось соглашение Орды с Москвой и жестокий нажим на Тверь и Рязань. Этот союз не был искренним. Обе стороны не доверяли друг другу. Узбек поддержал Юрия Данилыча Московского потому, что его предшественник – Тохта, носитель и защитник традиций кочевой культуры, – поддерживал Михаила Тверского, честного, открытого, непродажного. Узбеку были ближе московские князья, блюдущие свою выгоду, подобно алчным и хитрым купцам, доходы коих зависели от хана. Но ставка хана на князя-приказчика была ошибочной, так как в княжестве существовал еще и народ, состоявший из земледельцев и бояр, служилых людей и монахов, местных уроженцев и эмигрантов из Киева, Чернигова, Волыни, пустевших в то время из-за постоянных набегов татар и литовцев. Все было в быстром и направленном движении. Поэтому единение ордынского султана с московским князем оказалось недолговечным. Сделаем вывод. Процесс этот продолжался до тех пор, пока ордынцы были язычниками или христианами-несторианами, то есть не входили в чужой и враждебный Руси суперэтнос. Сама по себе смена религии не имела бы значения, но с ней было связано изменение политического курса, направления культуры и всего строя жизни. Став из степного хана мусульманским султаном, Узбек сделал ставку на купеческий капитал торговых городов Поволжья и Ирана, отодвинув на задний план интересы земледельческой Руси и кочевой степи. В XIV веке на Руси антиордынские настроения выкристаллизовались в мощное движение, связанное с новым взрывом этногенеза, которое возглавил Сергий Радонежский. Именно оно толкнуло русских людей на Куликово поле, где бой шел не с «погаными», то есть язычниками, а с «басурманами», или мусульманами, представителями чуждого мира и враждебной системы. Именно здесь началась грандиозная борьба, закончившаяся полной победой русских. Мусульманские султаны Сарая Узбек и Джанибек всеми способами выжимали с Руси серебро, необходимое им для оплаты армии, но они же защищали кормилицу Русь от натиска литовцев, захватывавших город за городом, область за областью. Победоносная Литва подчинила себе Полесье, Черную Русь, Волынь, Киев, Полоцк и тянулась к Твери, Рязани и даже Москве. Князья Гедимин, Ольгерд и его сын Ягайло имели в своем подданстве больше русских людей, нежели литовцев. А литовцы подчинялись обаянию русской культуры, завоеванного населения, принимали православие, женились на боярышнях, учили русскую грамоту, удачно воевали с татарами и москвичами. Казалось, что Вильна вырвет у Сарая гегемонию в Восточной Европе, и реальный шанс для такой замены появился в 1356 году. Узбек и Джанибек, сменив веру и обычаи, выиграли материально, приобретя симпатии мусульманских купцов богатых городов Поволжья. Но они потеряли морально, ибо те кочевники, которые служили им не за страх, а за совесть, откачнулись от нарушителей степных традиций. Лишь на Востоке, в Белой орде, хан Тохтамыш мог доверять своим подданным, и на Западе, в Крыму, темник Мамай отдавал приказы своим нукерам. Войско Мамая не разложилось вместе с Золотой Ордой, а сам он, обладая надежным войском, мог возводить и менять Чингисидов по своему усмотрению. Мамай был близок к тому, чтобы уничтожить Золотую Орду, но ему мешали три обстоятельства: наличие в Заволжских степях неразложившихся кочевников Тохтамыша, нехватка денег для оплаты достаточно большого войска и отсутствие сильного союзника. Деньги дали генуэзцы, владевшие тогда городами на южном берегу Крыма; на эти деньги Мамай нанял воинов из ясов и касогов. А союзником его стал Ягайло литовский, сторонник католической Европы. Но с Дмитрием и Тохтамышем воевать Мамаю пришлось. Безусловно, на Москве не было единого мнения по поводу всех этих ордынских дел. Защита самостоятельности государственной, идеологической, бытовой и даже творческой означала войну с агрессией Запада и союзной с ней ордой Мамая. Именно наличие этого союза придало остроту ситуации. Многие считали, что куда проще было подчиниться Мамаю и платить дань ему, а не ханам в Сарае, пустить на Русь генуэзцев, предоставив им концессии, и в конце концов договориться с папой о восстановлении церковного единства. Тогда был бы установлен долгий и надежный мир. Любопытно, что эту платформу разделяли не только некоторые бояре, но и церковники, например духовник князя Дмитрия – Митяй, претендовавший на престол митрополита. Мамай пропустил Митяя через свои владения в Константинополь, чтобы тот получил посвящение от патриарха. Но Митяй по дороге внезапно умер. Сторонники этой платформы были по складу характера людьми спокойными, разумными обывателями. Им противостояла группа патриотов, чьим идеологом был Сергий Радонежский. Москва занимала географическое положение куда менее выгодное, чем Тверь, Углич или Нижний Новгород, мимо которых шел самый легкий и безопасный торговый путь по Волге. И не накопила Москва таких боевых навыков, как Смоленск или Рязань. И не было в ней столько богатства, как в Новгороде, и таких традиций культуры, как в Ростове и Суздале. Но Москва перехватила инициативу объединения Русской земли, потому что именно там скопились страстные, энергичные, неукротимые люди. Они рождали детей и внуков, которые не знали иного отечества, кроме Москвы, потому что их матери и бабушки были русскими. И они стремились не к защите своих прав, которых у них не было, а к получению обязанностей, для обеспечения несения которых полагалось «государево жалование». Тем самым служилые люди, используя нужду государства в своих услугах, могли служить своему идеалу и не беспокоиться о своих правах; ведь если бы великий князь не заплатил вовремя жалования, то служилые люди ушли бы, а государь остался без помощников и сам бы пострадал. Эта оригинальная, непривычная для Запада система была столь привлекательна, что на Русь стекались и татары, не желавшие принимать ислам под угрозой казни, и литовцы, не симпатизировавшие католицизму, и крещеные половцы, и меряне, и мурома, и мордва. Девиц на Москве было много, службу получить было легко, пища стоила дешево, воров и грабителей вывел Иван Калита. Но для того, чтобы это скопище людей, живущих дружно и в согласии, стало единым этносом, не хватало одной детали – общей исторической судьбы, которая воплощается в коллективном подвиге, в свершении, требующем сверхнапряжения. Именно эти факты являются концом только биологического становления и началом исторического развития. Когда же народу стала ясна цель – защита не просто территории, а принципа, на котором надо было строить быт и этику, мировоззрение и эстетику, короче, все, что ныне называется оригинальным культурным типом, – то все, кому это было доступно, взяли оружие и пошли биться с иноверцами: половцами, литовцами, генуэзцами (чья вера считалась неправославной) и с отступниками – западными русскими, служившими литвину Ягайле. Только новгородцы уклонились от участия в общерусском деле. Они больше ценили торговые пути, выгодные сделки, контакты с Ганзой, несмотря на то что немцы не признали новгородцев равноправными членами этой корпорации. Этим поступком Новгород выделил себя из Русской земли и через 100 лет подвергся завоеванию как враждебное государство. Но будем последовательны: Новгород сохранил черты культуры, присущие древнерусским городам, и, подобно им, пал жертвой воспитанного и отработанного близорукого эгоизма. А вокруг Москвы собралась Русь преображенная, способная к подвигам, вплоть до жертвенности. Благодаря этим качествам Москва встала против Орды и ее союзников. У Мамая же была механическая смесь разнообразных этносов, чуждых друг другу, не спаянных ничем, кроме приказов своего темника. Поэтому одна проигранная битва смогла опрокинуть державу Мамая как карточный домик. На Куликово поле пошли рати москвичей, владимирцев, суздальцев и т.д., а вернулась рать русских, отправившихся жить в Москву, Владимир, Суздаль и т.д. Это было началом осознания ими себя как единой целостности – России. И наконец, учтя все сказанное, мы сможем поставить вопрос о соотношении древнерусской и великорусской культур. Существует мнение, с которым согласился даже А. С. Пушкин, что XIV–XV века – темное пятно русской истории, причина последовавшего отставания России от Европы. Но ведь именно в эту эпоху работал Андрей Рублев, произносили огненные слова Нил Сорский и Вассиан Патрикеев. Именно тогда русские рати остановили войска Литвы и Польши, авангарда католического натиска на Восток, и тогда же другие русские войска присоединили древнюю Биармию или Заволоцкую Чудь, а также устояли против набегов Тимура и Едигея. Видимо, великий поэт, находившийся на уровне науки своего времени, недооценивал огромность творческого взлета системной целостности, возникшей накануне Куликовской битвы вокруг Москвы. Русь сначала создала очаги сопротивления, а потом перешла в контрнаступление. Таким образом, мы можем датировать «пусковой момент» великорусского этногенеза XIII и XVI веками, а осознание русскими себя как целостности – 8 сентября 1380 года. Тохтамыш и Тимур[69] Столкновение с Тохтамышем сильно ослабило положение великого князя Дмитрия. Ведь ярлык на великое княжение, как и раньше, давал хан, поскольку Куликовская битва не изменила политических взаимоотношений Орды и Москвы: великое княжение связывалось с княжением московским «волей» ордынского царя. «Нелюбием», возникшим между Дмитрием и Тохтамышем, решила воспользоваться Тверь. Но попытки тверского князя Михаила Александровича получить от хана великое княжение успеха не имели: Дмитрий послал в Орду своего сына, княжича Василия, и тому удалось сохранить великое княжение за Москвой. Правда, Тохтамыш оставил Василия Дмитриевича в Орде в качестве заложника, но уже в 1385 г. ему удалось бежать в Молдавию, откуда он попал в Литву, где был пленен Витовтом. Витовт поставил условием освобождения княжича женитьбу Василия на Софье Витовтовне, и наследник московского престола вынужден был согласиться. В Москве, как мы помним, установилось наследственное владение государей Калитиной династии. Не случайно в своем завещании Дмитрий Донской благословлял сына Василия великим владимирским княжением, говоря об изменении отношений с Ордой в более далекой политической перспективе: «А переменит Бог Орду, дети мои не имут выходу в Орду платить, и который сын мой возьмет дань на своем уделе, то тому и есть». В этих словах – эмоциональные перемены, внесенные во взаимоотношения с Ордой сожжением Москвы Тохтамышем. Власть хана еще признается как данность, но уже представляется тягостью, от которой все русские готовы с удовольствием избавиться, тем более что к концу XIV в. союз с Ордой уже не приносил Москве прежних выгод. Такое восприятие ханской власти и отражала политика московского князя после 1382 г. Хан Тохтамыш, объединивший Белую, Синюю и Золотую Орду и тем самым восстановивший улус Джучиев, не сумел сохранить с таким трудом завоеванную власть. Виной тому была все та же ограниченность Тохтамыша как политика. Вспомним, что возвышением в Орде Тохтамыш первоначально был обязан помощи Железного Хромца – Тимура. Сам Тимур происходил из монгольского рода Барлас и не принадлежал к числу Чингисидов. Ревностный мусульманин, одинаково хорошо знавший тюркский и персидский языки, Тимур был не только воином, но и писателем. Этот великий завоеватель был человеком своей эпохи – эпохи смешения нравов и традиций в Монгольском улусе конца XIV – начала XV в. Но сам он принадлежал уже к исламскому суперэтносу и развивал традиции мусульманской культуры, а не Ясы Чингисхана. Опирался Тимур на мусульманское население оазисов Средней Азии. Если войска Чингисхана представляли собой ополчение кочевников, каждый из которых умел ездить верхом и стрелять из лука, то военные силы Тимура формировались на иной основе. Мобилизовывать не умевших держать в руках саблю дехкан не имело смысла, и среднеазиатское войско Тимура составлялось из профессиональных вояк – «гулямов» (удальцов). Профессионалы рисковали своей жизнью, разумеется, не даром – их служба очень хорошо оплачивалась. Но для того чтобы получить хорошее жалованье, воин-гулям должен был продемонстрировать свое умение: например, на всем скаку снять копьем кольцо, которое проверявший держал в двух пальцах. Легко представить, сколько уходило усилий на подобную подготовку. Вместе с тем от гулямов требовалась абсолютная дисциплина, безоговорочное послушание командующим – эмирам. В рассматриваемый период Средняя Азия являла собой сплошной театр военных действий. Последние монгольские ханы боролись со своими эмирами, а эмиры – с джетэ (слово «джетэ» означает «разбойничья банда», «партизанский отряд»). Джетэ, составлявшиеся из всех желавших жить грабежом и не слушать никакого начальства, имели немалые успехи. Они создали отдельное от Джагатайского улуса государство Могулистан в Семиречье, где преобладало тюркское, а не монгольское население. Власть монгольских ильханов в Иране тоже оказалась уничтоженной вследствие восстания персидских патриотов – сарбадаров. («Сар ба дар» – лозунг этого движения, гласивший: «Пусть голова на воротах висит».) В это время окончательного распада монгольских государств, в трагичную эпоху войны всех против всех, Тимур во главе своих гулямов оказался наиболее сильным и удачливым военачальником. Столкнувшись с городским ополчением заговорщиков-сарбадаров, Тимур разбил их наголову. Крепости сарбадаров были взяты, а тех из них, кто имел неосторожность сдаться, по приказу Тимура живьем замуровали в стены. Конечно, это была сверхъестественная жестокость, но поскольку так же жестоко расправлялись сарбадары со сторонниками Тимура, то понять его можно. Затем Тимур овладел всей Ферганой. Своей столицей завоеватель сделал город Кеш, ныне Шахрисабз; подчинил себе Самарканд. В 1370 г. Железный Хромец захватил Балх. Эмир Балха Гусейн, бывший союзник Тимура в борьбе против сарбадаров, сдался на условиях сохранения ему жизни, но, не выдержав нервного напряжения, бежал. Его поймали и казнили, потому что Тимур посчитал, что Гусейн нарушил договор, совершив побег. На юге противниками Тимура были Музаффариды – последняя персидская династия, правившая в Фарсе и Исфахане. Тимур взял Исфахан, пощадив жителей, но они, восстав, перебили его гарнизон. После этого Исфахан был уничтожен, а из голов убитых построены пирамиды. Однако Музаффариды продолжали сопротивление. Тимур подошел к Ширазу, у стен которого храбрец султан Музаффарид хотел сам сразиться с Тимуром, но был убит прежде, чем смог прорваться к своему врагу. С пребыванием Тимура в Ширазе связан интересный эпизод. В этом городе жил Хафиз, великий поэт, славившийся на весь мусульманский мир. Среди прочих своих творений он написал и такое любовное четверостишие: Если эта прекрасная турчанка Тимур, конечно, знал эти стихи. И вот, взяв Шираз, он сел на ковре в центре площади среди моря жестокости и насилия: гулямы грабили дома, гнали пленных, насиловали женщин и резали последних сопротивлявшихся. Не обращая на это никакого внимания, Тимур приказал привести поэта Хафиза. Через некоторое время к нему подвели знаменитого стихотворца, одетого в простой халат. И завоеватель сказал поэту, намекая на известное четверостишие: «О несчастный! Я всю жизнь потратил для того, чтобы украсить и возвеличить два моих любимых города: Самарканд и Бухару, а ты за родинку какой-то потаскухи хочешь их отдать!» Хафиз ответил: «О повелитель правоверных! Из-за такой моей щедрости я и пребываю в такой бедности». Тимур оценил находчивость поэта – он рассмеялся, приказал дать Хафизу роскошный халат и отпустил его восвояси. Разумеется, порядки и поступки Тимура можно осуждать, но вряд ли он мог поступать иначе. Начав войну, Тимур должен был ее продолжать: гулямам надо было платить, и война кормила войско. Остановившись, Тимур остался бы без армии, а затем и без головы. Однако вернемся к Тохтамышу. Встав во главе Джучиева улуса, он не мог ориентироваться на порядки, установленные Тимуром в Средней Азии. Если бы он даже и хотел придерживаться подобной стратегии, его нойоны и местные сибирские вожди никогда не смирились бы с ролью простых слуг султана, а не вольных дружинников хана. Народ Тохтамыша требовал выступления против агрессии мусульман, захватывавших область за областью в Западной Сибири. Кроме того, по завещанию Чингисхана, весь Хорезмский оазис принадлежал потомкам Джучи. И в 1383 г. Тохтамыш сделал первую попытку обрести самостоятельность – попытался отнять Хорезм у Тимура. На какое-то время это ему удалось, но впоследствии Тимур вернул себе Хорезмский оазис. С этого времени и началась война между двумя культурами: степной евразийской и исламской, представителем которой был Тимур, восстановивший прежнюю мощь мусульманских армий. По существу, действия Тимура были попыткой регенерировать угасавшую идеологию и культуру ислама. Длилась эта попытка, с учетом деятельности Тимуридов, сто лет, и в течение этого времени главными врагами мусульман Средней Азии являлись населявшие евразийскую степь кочевники. В 1385 г. Тохтамыш нанес новый удар по владениям Тимура. Войска Тохтамыша прошли через Дарьяльское ущелье и захватили Тебриз в Азербайджане, который, опять-таки по разделу Чингиса, должен был принадлежать улусу Джучи. Тимур отогнал армию татар, захватив многих в плен. Пытаясь отсрочить решающее столкновение, он вернул пленникам свободу и отправил их под конвоем в родные степи. Но изменить ход дальнейших событий ему не удалось. Через два года Тохтамыш, собрав довольно большие силы, перебросил их через казахскую степь и, пройдя через пустыню Бетпак-Дала, миновав Ходжент и Самарканд, дошел до Термеза. По пути хан ограбил все кишлаки, которые там были, но не взял ни одной крепости: они были надежно укреплены. Тимур, воевавший в это время в Персии, с отборными частями своей армии форсированным маршем вернулся в Среднюю Азию. Тохтамыш стал отступать, но Тимур настиг его в Фергане и разбил, после чего Тохтамыш убежал с остатками войск в Западную Сибирь. Тимур понимал, что война с Тохтамышем может быть выиграна только в собственно татарских владениях. Но Синюю Орду и Поволжье защищали от мусульман Средней Азии не столько татарские войска, сколько огромные расстояния. Для того чтобы вести степную войну, надо было иметь достаточное количество лошадей, а для них – необходимый фураж или подножный корм. Обширные же степи, отделяющие Волгу от оазисов Средней Азии, покрыты травой не круглый год. В этой ситуации Тимур продемонстрировал незаурядный талант стратега. Он учел, что весной среднеазиатская степь порастает травой сначала на юге, потом в центральном Казахстане, а уж затем на севере. Тимур собрал войско и двинулся в поход в буквальном смысле слова «вслед за весной»; лошади питались травой, которая не успевала завянуть. Войско запасалось провизией, проводя облавные охоты в степи. Тохтамыш не ожидал мусульманского броска через степь, но начал быстро собирать все имевшиеся в его распоряжении силы. В это время, в 1389 г., скончался московский великий князь Дмитрий Иванович. И хотя он, как мы помним, завещал, противно всем древним обычаям, великое княжение своему сыну Василию, утвердить это решение мог лишь законный хан русского улуса – Тохтамыш. Тохтамыш подтвердил права Василия Дмитриевича и, что вполне естественно, в преддверии столкновения с Тимуром потребовал от него помощи. Князь Василий войско привел, но никакого желания сражаться за Тохтамыша у русского князя не было: слишком свежа оставалась память о разорении Москвы в 1382 г. Таким образом, в решительный момент столкновения со среднеазиатскими тюрками хан Тохтамыш остался без союзника. Тимур, совершив стремительный бросок, с ходу прижал ханские войска к Волге. Несмотря на все мужество татарской конницы, Тохтамыш потерпел поражение. Регулярная армия Тимура, его грозные, гулямы одержали решительную победу в битве при реке Кондурче – одном из притоков Волги. Сам Тохтамыш успел переправиться на правый берег Волги, но дело его было проиграно. Василий, увидев, как поворачиваются события, повел свое войско в низовья Камы и тоже ушел на правый берег Волги, спасаясь от Тимура. Тимур не стал переходить реку, и московский князь удачно избежал столкновения. После этой победы Тимур начал отступать. Он уходил, спасаясь от холода и голода, тем же путем, каким шел весной. Ему удалось вывести бо?льшую часть своей армии. Поход Тимура на Волгу был победоносным, но он не решил своей основной задачи – защиты Средней Азии. Ядро, самое сердце владений Тимура с прекрасными городами Самаркандом и Бухарой, оставалось беззащитным от ударов со стороны казахской степи. И действительно, Тохтамыш вскоре снова выступил против Тимура. Он двинулся из приволжских степей на юг по западному берегу Каспийского моря. Тимур вышел ему навстречу, и оба войска встретились на Тереке, где и произошла кровопролитная битва. Татары проявили исключительный героизм, но татарское ополчение снова не выдержало натиска регулярной армии. Тимур одержал победу, причем он сам сражался в рядах воинов. Тохтамыш вынужден был бежать. А Тимур двинулся дальше, прошел через прикаспийские степи и вторгся в центр Золотой Орды – волго-донское междуречье. Храбрее всех сражался против Тимура талантливый военачальник Бек-Ярык-оглан. Он успел отвести свои войска к Днепру, но Тимур бросил туда одного из лучших своих полководцев – эмира Османа. Осман окружил степняка на берегах Днепра. Однако Бек-Ярык снова вырвался и с частью своего войска устремился на восток, ибо другого пути у него не было: к западу располагалась враждебная татарам Литва. Только у русского города Ельца эмир Осман настиг Бек-Ярыка. Эмир осадил Елец. Защищаемый русско-татарскими войсками, город сопротивлялся отчаянно, но в конце концов пал. И снова Бек-Ярык-оглан со своим старшим сыном прорвался через ряды осаждавших и ушел на Русь. Тимур был настолько поражен мужеством, стойкостью и верностью татарского вождя, что, захватив в плен его семью, приказал отправить ее вслед герою под конвоем, дабы никто не обидел женщин и детей. Теперь Тимур намеревался пройти дальше на Русь и захватить Рязань и Москву. Вероятно, это удалось бы ему, если бы не восстание в тылу среди черкесов, осетин и татар. Тимуру пришлось повернуть назад. Пройдя Перекоп, он собрал на Крымском полуострове дань и накормил свое войско. И хотя восставшие черкесы выжгли степи к северу от Кубани, войска Тимура сумели пройти через выжженную степь, нанести черкесам жестокое поражение и заставили их укрыться в горах. Миновав Дербентский проход и выйдя в Азербайджан, Тимур ликвидировал крепости восставших в Закавказье и в горах Эльбрус, а затем вернулся в Самарканд – город, «подобный раю». Но на этом победоносные войны Тимура не кончились. Ему пришлось жестоко воевать с турками-османами, и в 1402 г. он разбил османского султана Баязида с его дотоле непобедимой пехотой – янычарами. Затем Тимур подошел к стенам Смирны, занятой крестоносным гарнизоном рыцарей-иоаннитов. Турки осаждали Смирну 20 лет и не могли взять, а Тимур взял крепость штурмом за несколько дней. Когда же к Смирне прибыли венецианские и генуэзские корабли с помощью и припасами для осажденных, то воины Тимура забросали их из катапульт головами рыцарей ордена Иоанна. После этого властелин Средней Азии снова вернулся в Самарканд и, расплатившись со своей армией, продолжал подавление вечно бунтовавшего Могулистана. Меж тем во время отступления Тимура из Поволжья некоторые офицеры татарского происхождения (мурза Едигей и царевич из Белой Орды Корейчак) просили у Тимура разрешения остаться в степях и были отпущены. Тимур возложил на них задачу упорядочить татарскую Орду. Но военачальники уехали и не вернулись к мусульманскому владыке, нарушив присягу. Очевидно, фактор этнической принадлежности был сильнее. Мурза и царевич-татарин не стали помогать завоевателю, а предпочли соединиться со своим народом. Так в разбитой Тимуром Золотой Орде утвердились новые властители. Правда, сын Урус-хана из Белой Орды царевич Корейчак, молодой и достаточно энергичный человек, через некоторое время умер, и власть перешла к его двоюродному брату – Темир-Кутлугу. Новому хану, лишившемуся из-за предательства Корейчака поддержки Тимура, вскоре пришлось защищать свой престол от Тохтамыша. У последнего оставалось достаточное количество сторонников, главным образом за Уральским хребтом. Тохтамыш захватил Сарай, но Темир-Кутлуг разгромил его и вступил в тесный союз с мурзой Едигеем, которого назначил правителем двора, фактически – главой правительства. Поскольку союз с Москвой был для Тохтамыша уже невозможен, разбитый, он ушел на запад, в литовские пределы. |
|
||
