|
||||
|
|
Слова и словесные сообщества – в замедленном чтении Что было у Плюшкина  Вряд ли найдется среди вас хоть один, кто бы не помнил посещение Чичиковым Плюшкина. Это место в «Мертвых душах» удивительно выразительно и живописно. Оно написано так, что сразу же соглашаешься с Н. В.Гоголем: «Нет слова, которое было бы так замашисто и бойко, так вырывалось бы из-под самого сердца, так бы кипело и животрепетало, как метко сказанное русское слово». Однако далеко не все слова в этой шестой главе первого тома принадлежат сейчас к русскому лексическому ядру, хорошо нам знакомому и известному. Многие из них давно переместились на словарную периферию и носителями современного русского языка поэтому забыты. По большей части это либо слова, имеющие сейчас иные значения (в языкознании они называются лексико-семантическими архаизмами), либо устаревшие слова, отражающие ушедший в прошлое быт. Все они, как и иные архаические факты языка, серьезно мешают нам понимать замашистое и меткое гоголевское слово, а с ним и то, чем доверительно делится писатель. Взять хотя бы отрывок, живописно повествующий, что на самом деле было у выглядевшего словно нищий Степана Плюшкина. Ведь это был очень богатый помещик. Но обратимся к тексту.  Чичиков и Плюшкин. Иллюстрация художника А. Лаптева к поэме П. В. Гоголя «Мертвые души». 1953 г. У этого помещика была тысяча с лишком душ, и попробовал бы кто найти у кого другого столько хлеба зерном, мукою и просто в кладях, у кого бы кладовые, амбары и сушилы загромождены были таким множеством холстов, сукон, овчин выделанных и сыромятных, высушенными рыбами и всякой овощью, или губиной. Заглянул бы кто-нибудь к нему на рабочий двор, где наготовлено было на запас всякого дерева и посуды, никогда не потреблявшейся, – ему бы показалось, уж не попал ли он как-нибудь в Москву на щепной двор, куда ежедневно отправляются расторопные тещи и свекрухи, с кухарками позади, делать свои хозяйственные запасы, и где горами белеет всякое дерево – шитое, точеное, лаженое и плетеное: бочки, пересеки, ушаты, лагуны?, жбаны с рыльцами и без рылец, побратимы, лукошки, мыкольники, куда бабы кладут свои мочки и прочий дрязг, коробья из тонкой гнутой осины, бураки из плетеной берестки и много всего, что идет на потребу богатой и бедной Руси. На что бы, казалось, нужна была Плюшкину такая гибель подобных изделий? во всю жизнь не пришлось бы их употребить даже на два таких имения, какие были у него, – но ему и этого казалось мало. Мы хорошо видим, что у Плюшкина всего было много: и крепостных, и имущества, и продуктов («во всю жизнь не пришлось бы их употребить даже на два таких имения, какие были у него»), но вот, что именно у него имелось, мы представляем себе весьма смутно, и картина его богатства, нарисованная Гоголем, подернута довольно густым «языковым туманом». Загадочно выглядят даже такие слова, как овощь, кладь, шитое, точеное, побратимы, мочки, бураки, гибель, не говоря уже о существительных сушилы, губина, пересеки, лагуны, мыкольники, коробья, дрязг и фразеологическом обороте щепной двор. Но обратимся к перечисленным словам. Первая группа слов относится к лексико-семантическим архаизмам. Они присутствуют и в нашей речи, но называют сейчас не совсем то или совсем не то, что именовал ими Гоголь. Правда, подлинно коварным здесь является лишь слово… овощь. Все остальные выступают в таких «словесных компаниях», что (пусть не зная, что они означают) мы сразу же понимаем их омонимичность одинаково звучащим словам нашего словаря. В силу этого при медленном чтении их инородность осознается нами так же, как и инородность слов второй группы (сушилы и т. д.). В чем же языковое «коварство» слова овощь? Это не его морфологическая странность для нас как существительного женского рода (сейчас оно принадлежит к словам мужского рода и в единственном числе почти не употребляется). Коварно это слово своим более широким, чем в настоящее время, значением. Оно называет (если, конечно, запятая в отрывке «…и всякой овощью, или губиной» поставлена писателем!) не только огородные плоды и зелень, но и лесные грибы и ягоды. В таком амплуа выступает тогда и диалектное слово губина (указанное значение зарегистрировано соответствующими словарями). Каким большим лингвистическим весом тут обладает, как видим, маленькая запятая! Стоит только ее убрать, и все меняется. Союз или из пояснительного союза становится разделительным, слово губина из уточнения превращается в однородный существительному овощь член предложения, и соответственно слово овощь уже, равно как и существительное губина, будет выступать перед нами с другим значением. Названная пара перестанет быть синонимической, и составлявшие ее слова по языковым нормам будут уже использоваться как лексические единицы, обозначающие «близкие», но разные предметы одного тематического класса: слово овощь – «огородные плоды и зелень» (как и сейчас в литературной речи), а слово губина – «грибы» (как и сейчас в некоторых русских диалектах). Ведь объединять синонимы разделительным союзом или – явная и грубая смысловая и стилистическая ошибка. Но последуем далее за перечисленными словами. Вот здесь их истинное смысловое «лицо». Оказывается, что кладь – не «поклажа, груз», а «скирд»; шитое – не шитое (платье, костюм), а «деревянные изделия из сбитых (!) частей»; точеное – не точеное (лезвие, лицо и т. д.), а «деревянные изделия, выделанные на токарном станке»; побратимы – не названные братья или близкие (как братья!) друзья, а «большие деревянные сосуды вроде чугунка», что слово мочки никакого отношения к ушам не имеет и обозначает «нитки или пряжа», слово бураки – вовсе не название свеклы (ведь у Гоголя они «из плетеной берестки»), а «корзиночки, туески», существительное гибель – уже и не существительное, а неопределенно-количественное слово со значением «много» (ср. жуть комаров, бездна вещей, тьма народу, пропасть воды и т. д.). Как видим, много различий в значении, казалось бы, самых привычных для нас слов гоголевского художественного текста. Нисколько не меньше мешают понимать нам сказанное Гоголем и такие устаревшие слова, которых в современной лексической системе русского литературного языка нет вовсе. Неясность этих слов видна сразу, но от того не легче: все равно надо лезть в толковые словари (или в 17-томный академический «Словарь современного русского литературного языка», или в «Толковый словарь…» В. И. Даля), чтобы узнать, «что это за «лингвистические новости». Словари дают нам на наш вопрос ответ совершенно определенный. Слово сушилы (в старой форме именительный падеж множественного числа с окончанием – ы вместо – а, ср. у Пушкина: домы, селы, ветрилы) является не чем иным, как обозначением всем знакомых и привычных сеновала, чердака. Прилагательное сыромятные (овчины) указывает, что овчины – из недубленой кожи. Слово пересеки значит «кадка из распиленной напополам бочки». Слово лагуны называет стоячие кадки с раздвижной крышкой. Существительное мыкольники – это название небольших открытых коробочек. Жбаны (с рыльцами и без рылец) – это «кувшины с ножками и без них», берестка – «берестяная кора», а коробья – «сундуки», щепной двор – «место, где продаются изделия, изготовленные из древесины» (ср. монетный двор, печатный двор, гостиный двор, постоялый двор и т. д.). Что же касается слова дрязг (оно сразу же, конечно, и не случайно напоминает слово дрязги – «мелкие ссоры»), то оно в этом отрывке имеет значение «мелочь», а не более частотное – «хлам, мусор». Наше путешествие по трудным местам приведенного выше отрывка «Мертвых душ» подошло к концу. Не осталось ли у вас впечатления, что мы все время продирались сквозь словесную чащу? Загадочный AgN03 У всех вас (это несомненно) прочно сохранился в памяти драматический разговор Базарова с его отцом после возвращения Евгения Васильевича от уездного врача, у которого он анатомировал умершего крестьянина. Вот он:
Сразу же возникает вопрос: что просил Базаров у отца, что тот ему дал? Впрочем, приведем еще два предложения из их диалога:
Итак, Василий Иванович дал сыну, чтобы им прижечь ранку, адский камень. Что же это за лекарственный препарат? Ответить на данный вопрос можно только тогда, когда вы обратитесь к «Большому толковому словарю русского языка» (БТС: СПб., 1998) или к кому-нибудь из благородного цеха медиков. Такое обстоятельство связано с тем, что медицинская терминология, как и всякая другая, относится к словарной периферии литературного языка и хорошо известна только специалистам. Тем более что здесь мы сталкиваемся с архаическим термином, рядом с которым ныне употребляется синоним более частотный. Адский камень – название азотнокислого серебра, т. е. ляписа. Наверняка вам хочется узнать, почему нитрат серебра (ляпис) называется адским камнем. Скорее всего за свой черный цвет, вызывавший ассоциации с тьмой кромешной. Вообще-то, устойчивое словосочетание адский камень является фразеологической калькой латинского выражения lapis infer-nalis (lapis, – idis – «камень», infernum – «ад», – alis = – ский). Обратили внимание на латинское слово? Да-да! В качестве отдельного слова как заимствование из латинского языка оно в образе ляпис чаще всего сейчас и называет азотнокислое серебро. А в качестве составной части все еще «светится» в прилагательном лапидарный – буквально «высеченный на камне» (а значит, и краткий!). Как видим, прилагательное адский в обороте адский камень – совсем иное, нежели в сочетаниях адская (= «очень тяжелая») работа, адская (= «очень сильная») жара, адская (= «ужасная») дорога, адский (= «коварный») замысел и т. д. Водомет и водомёт Одно слово водомет нам всем хорошо знакомо, хотя мы его не находим даже на страницах первого тома академического четырехтомного «Словаря русского языка», вышедшего в 1981 г. Оно постоянно употребляется нами, когда речь идет о тушении пожаров, а также иногда встречается на газетной полосе в сообщениях о демонстрациях трудящихся, студентов в защиту своих прав и свобод, коль скоро в корреспонденции говорится о странах «свободного» мира. В качестве примера приведем заметку 80-х гг. «Из водометов по демонстрации»:
Существительное водомет обозначает здесь приспособление для разгона демонстрантов струей воды. Это слово появилось как неточная словообразовательная калька немецкого Wasserwerfer (Wasser – «вода», werf(en) – «мет(ать)», – er – суффикс действующего предмета) с оглядкой на уже существовавшие в русском языке названия различных видов автоматического орудия с опорной основой – мет (ср. пулемет, миномет, огнемет и др.). Как свидетельствует «Большой немецко-русский словарь», составленный под руководством О. И. Москальской (М., 1969. Т. 2. С. 576), оно в конце 50-х гг. было уже известно. Но перейдем к другому водомету. Раскроем сборник стихов А. А. Фета и обратимся к «Фантазии»: Расписные раковины блещут Здесь нас поджидает совсем иной водомет. Слово водомет в приводимом отрывке выступает в качестве устаревшего названия… фонтана. Правда, значение «фонтан» у нашего существительного четко в пределах процитированного четверостишия не вырисовывается; необходимо, чтобы не ошибиться, взять текст в целом. Поэт в своей художественной фантазии сознательно прибегает к гиперболе. Фонтаны у него мечут жемчужной пеной и алмазной пылью аж… до луны. И изображаемая картина от этого становится еще более выразительной и зримой. Вспомните аналогичные строки в «Руслане и Людмиле» А. С.Пушкина: Летят алмазные фонтаны в «Демоне» М. Ю. Лермонтова: Гарема брызжущий фонтан Слово водомет, вместо нейтрального синонима фонтан, Фет использует как одно из средств создания поэтичности. Оно хорошо согласуется со всем своим языковым окружением, включая старославянскую форму мещут (вместо русской мечут), используемую в поэзии XIX в. как поэтическая вольность, для рифмовки (ср. у Пушкина в поэме «Анджело»: «Анджело бледнеет и трепещет и взоры дикие на Изабелу мещет»). Заметим, что наше слово отмечается и у Пушкина, но его отношение к существительному водомет другое – ироническое и отрицательное. В письме к брату из Одессы 13 июня 1824 г. Пушкин пишет: «На каком основании начал свои действия дедушка Шишков? Не запретил ли он Бахчисарайский фонтан из уважения к святыне Академического словаря и неблазно составленному слову водомет? Шутки в сторону, ожидаю добра для литературы вообще и посылаю ему лобзание яко Иуда-Арзамасец, но яко Разбойник-Романтик». На слово водомет он смотрел как на ненужного русского дублера привычного для него итальянизма фонтан, подобного неологизмам известного литературного деятеля адмирала А. С. Шишкова тихогромы – «фортепиано», мокроступы – «галоши» и т. д. Добавим здесь к слову, что Пушкин в данном случае ошибался: слово водомет, как и, между прочим, слово фонтан, в словарях отмечалось уже в 1780–1782 гг. Попутно два слова о двух словах из приведенных примеров Фета и Пушкина; без краткого комментария поэтов можно понять неправильно. Так, ошибочно будет восприятие слова чудный у Фета и Пушкина как современного: в его стихотворении оно значит не «очень хороший, замечательный, великолепный», а «достойный удивления, необычайный», т. е. имеет значение, которое как одно из значений свойственно сейчас прилагательному чудесный. Будет просто непонятно соответствующее место письма Пушкина, если мы не будем знать, что ныне исчезнувшее из обихода слово неблазно значит «правильно». Оба слова на паритетных началах в пределах одного стихотворения мы находим у Ф. И. Тютчева в «Фонтане», где они располагаются в разных строфах и выполняют различные роли (слово фонтан употребляется в прямом, а слово водомет в переносном смысле). Распределение этих синонимов в поэтическом тексте и их различное употребление оказывается не только стилистически оправданным, но удивительно красочным и выразительным: Смотри, как облаком живым В этом стихотворении, кроме отмеченной пары, наше внимание привлекает еще несколько слов. Кратко прокомментируем их. Глаголы ниспасть – «упасть», свергает – «сбрасывает вниз», стремит – «увлекает» и мятет – «беспокоит», деепричастие преломляя – «переламывая», существительное длань – «рука» (исходно – «ладонь»), прилагательное заветная (здесь «обусловленная») использованы поэтом как лексический материал высокого слога для придания сообщаемому оттенка патетичности и взволнованности. Яркая поэтическая фраза Лучом поднявшись к небу, он в научном отношении, между прочим, безукоризненна, так как выше определенной («заветной», по выражению Тютчева) высоты фонтан подняться не может, каким бы мощным ни был напор воды. Сопоставляя бьющий фонтан с полетом «смертной мысли», т. е. мысли человека, Тютчев хотел подчеркнуть ограниченность, по его мнению, познавательных возможностей людей, их зависимость от какой-то неведомой, но все решающей силы. Даже стремление к знаниям для него – «закон непостижимый». В поле нашего зрения слово экран В нашем современном языковом сознании слово экран тесно привязано к кино– и телеискусству. Это существительное употребляется, как правило (не будем касаться его технического значения – «устройство для отражения, поглощения или преобразования различного вида энергии), для обозначения либо киноискусства (ср. голубой экран – «телевидение»), либо полотна, на котором показываются фильмы или диапозитивы. Но так было не всегда. Слово экран появилось значительно раньше кино и указанных технических приспособлений. И вот этому яркий пример из романа «Идиот» Ф. М. Достоевского. Читаем:
В приведенном контексте слово экран несет ныне уже устаревшее, архаическое значение – «ширма, передвижной щит от жара или света». Именно с таким значением это слово и вошло впервые в русский язык в конце XVIII в. из французского языка, в котором ecran является переработкой нем. Schranke – «решетка, ограда». С современными значениями слово экран было нами заимствовано из того же французского языка уже в XX в. О прилагательном пресловутый В настоящее время это прилагательное имеет несомненную и яркую отрицательную окраску. Оно обозначает сейчас «имеющий сомнительную известность, вызывающий различные толки, нашумевший». Ранее же оно было «положительным словом» и выступало как синоним прилагательных знаменитый, известный. Такую смысловую метаморфозу (не такую уж редкую) необходимо всегда иметь в виду в тех случаях, когда перед нами – художественное произведение прошлого. Пусть поэтому вас не удивляет сочетание пресловутый Дунай у Ф. И. Тютчева в стихотворении «Там, где горы, убегая…»: Там, где горы, убегая, В этом сочетании никакого пренебрежения или иронии к знаменитой реке нет. Пресловутого Дуная значит «знаменитого Дуная». Изменение положительных слов в отрицательные иллюстрирует также и родственное нашему слову по корню ославить – «опозорить, распространить о ком-либо дурную славу» (от слава). Вспомните также глагол честить (сейчас «ругать»), имевший значение «прославлять, воздавать почести, оказывать кому-либо уважение». Возникновение у слов прямо противоположного значения – одна из закономерностей изменения значений слов и фразеологизмов (ср. скатертью дорога – исходно пожелание хорошего пути, т. е. гладкого, как скатерть < дъскатерть – «стол с гладкой (вытертой) крышкой»). О слове риза у Пушкина и особенно у Лермонтова Сейчас ризу можно увидеть лишь в церкви или музеях. Ведь для нас риза – это только «верхняя одежда священника, надеваемая им для богослужения». Поэтому о слове риза не стоило бы и говорить, если бы не некоторые обстоятельства его бытования в поэтическом языке XIX в. Интересны особенности его употребления в стихах Пушкина и Лермонтова, которые используют это существительное хотя и в близких, но все же разных значениях, ныне, однако, прочно и всеми забытых. Воскрешать их в нашей памяти совершенно необходимо, коль скоро нам хочется действительно понять, как говорил В. Брюсов, «потаенный смысл слов» в сложной и многоцветной стихотворной речи. Со словом риза у Пушкина мы встречаемся в стихотворении «Арион», написанном 16 июля 1827 г. (несомненно, в связи с годовщиной казни руководителей декабристов 13 июля 1 826 г.). Себя поэт иносказательно изобразил в нем в облике героя древнегреческого мифа Ариона, спасенного от гибели дельфином, очарованным его чудесным пением. В заключительной части стихотворения Пушкин подтверждает свою верность свободолюбивым идеалам: На берег выброшен грозою, Смысловую нагрузку (причем идеологической значимости) в этом четверостишии несут лишь первые две строчки. Остальные две строчки, образующие присоединительную конструкцию с и, воспринимаются как чисто версификационный «довесок», с информативной точки зрения избыточный и необходимый лишь для соблюдения строфического порядка. Именно здесь и появляется перед нами слово риза. Оно явно не современной семантики. Чтобы сделать этот вывод, достаточно вспомнить, что у Ариона, мифического певца языческой Древней Греции, одежды христианского священника (да к тому же для совершения богослужения) просто не могло быть: это было бы явным анахронизмом. Каково же значение существительного риза в этом контексте? Такое же, какое оно когда-то имело, – «одежда». Пушкин употребил здесь это слово в том архаическом значении, которым оно в начале XIX в. еще обладало (ср. народную загадку о кочанной капусте: Антипка низок, на нем сто ризок) и которое ему было свойственно, вероятно, с самого своего рождения (ср. др. – рус. ризы кожаны, сънискахъ тъкмо ризоу строуньноу, в ризу ко-рабленическую облекся и т. д.; серб. – хорв. риза «одежда»; болг. риза «рубаха» и т. д.). Заметим, что по своему происхождению слово риза скорее всего является производным от той же основы, что и резать, подобно тому как существительное рубъ (откуда – рубаха, рубище) – от рубить. Таким образом, риза влажная у Пушкина значит «мокрая одежда». Не ризой оказывается риза и у Лермонтова в стихотворении «На севере диком стоит одиноко…», очень вольном, но от этого не менее чудесном переводе гейневской миниатюры «Ein Fichtenbaum steht einsam»: И дремлет, качаясь, и снегом сыпучим Неточно понимают слово риза в этом контексте не только многие рядовые читатели, но и Л. В. Щерба. По поводу двух строк разбираемого стихотворения он пишет: снег сыпучий «…лежит мягко и может лишь содействовать впечатлению волшебной сказки, вводимому словами И дремлет, качаясь и усугубленному сверкающей, очевидно, на солнце, ризой (выделено нами. – Н. Ш.), в которую превратилось Decke. Лермонтова не смущает ни ветер, который предполагается его же вставкой качаясь и от которого снег должен был бы облететь, ни сосна, на которой сыпучий снег никак не держится, – ему нужен красивый поэтический образ, уничтожающий трагедию немецкого оригинала…» (см.: Щерба Л. В. Избранные работы по русскому языку. М., 1957. С. 100–101). Оставим в стороне красивые, но, мягко выражаясь, малодоказательные и ничего не говорящие слова Л. В. Щербы о том, что сыпучий снег «может содействовать впечатлению волшебной сказки», что это впечатление «усугубляется ризой», что поэту требуется лишь образ, который бы уничтожил трагедию немецкого оригинала. Зададим, не смущаясь, лишь один вопрос: где Л. В. Щерба в стихотворении увидел солнце (а отсюда – и сверкающую ризу) и услышал ветер, «от которого снег должен был бы облетать»? У Лермонтова их нет, они домыслены ученым. О том, почему следует предполагать «мороз и солнце», ничего не сообщается. О наличии ветра в открывающейся нашему взору картине, по мнению Л. В. Щербы, говорит «вставка слова качаясь», а также «место действия» (на голой вершине «предположить ветер более чем естественно»). Однако поэт описывал совсем другую картину.  Иллюстрация художника И. И. Шишкина к стихотворению М. Ю. Лермонтова «Сосна». 1891 г. Это станет ясным, как только мы перестанем фантазировать, приписывая словам риза и сыпучий те значения, которых они в стихотворении не имеют. При легком ветерке (он не раскачивает сосну, а лишь покачивает ее) идет (сыплется) сильный (сыпучий) снег, отчего сосна стоит вся в снегу, покрытая им, «как ризой», т. е. как покрывалом. Последнее значение («покрывало, саван») у существительного риза отмечается в самых ранних древнерусских памятниках. Ср. в «Остромировом евангелии»: Обиста е (тело) ризами съ ароматы, где слово риза передает др. – греч. othonion «полотно, покрывало». Таким образом, нашему взору (вспомните известную картину И. И. Шишкина) представляется совершенно реальная картина (одинокая, вся в снегу), а не «красивый поэтический образ, уничтожающий трагедию немецкого оригинала», как полагает Л. В. Щерба. Трагедию влюбленных (в немецком оригинале) уничтожают (в переводе Лермонтова) не строки И дремлет, качаясь, и снегом сыпучим Одета, как ризой, она, передающие гейневские слова Ihn schlafert, mit weisser Decke Umhullen ihn Eis und Schnee, а замена нем. Fichtenbaum «сосна» мужского рода женским родом рус. сосна, о чем верно, кстати, пишет выше – вслед за А. А. Потебней и К. Б. Бархиным – и сам Л. В. Щерба в указанной работе. Впрочем, если говорить о сути, вряд ли одиночество, изображенное русским поэтом, менее трагично, нежели судьба влюбленных (которым суждено «жить розно и в разлуке умереть») у Гейне. Очень субъективно также утверждение Л. В. Щербы, что лермонтовский текст написан «в эпическом, сказочном тоне и, по-видимому, совершенно сознательно создает благодушное настроение» и выступает как намеренная «замена трагического тона оригинала красивой романтикой». А сейчас вернемся к ризе. Отмеченное выше значение «покрывало, покров» у существительного риза встречается у поэтов – предшественников М. Ю. Лермонтова – нередко даже в пределах фразеологических оборотов перифрастического характера: Уже простерлася над понтом риза ночи (Херасков); Подземной бури завыванье Под страшной ризой темноты (Полежаев) и т. д. С такой же семантикой находим мы слово риза и у поэтов более поздних периодов, коль скоро в их индивидуально-авторском слоге нашли отражение элементы стихотворной речи первой половины XIX в. Поэт и гражданин Стихотворение «Гражданин» является самым страстным и лирическим среди поэтических произведений К.Ф. Рылеева, имеющих революционно-дидактический характер, и одним из наиболее ярких и выразительных произведений гражданской патетики в русской поэзии вообще. Высокая гражданственность содержания получила здесь удивительно адекватную художественную форму. Особое внимание невольно обращаешь на лексику и фразеологию стихотворения. Она представляет собой тонкий сплав элегического и одического материала, состоящий из так называемых традиционно-поэтических слов, имеющих оттенок либо возвышенности и патетичности, либо взволнованности и лиричности. Язык стихотворения удивляет своей современностью, поразительной чистотой от устаревших и неизвестных слов и оборотов. В стихотворении полностью отсутствуют типичные для высокой поэзии того времени мифологические образы. В нем нет ни одного слова или выражения, которого не знала бы книжная лексика современного русского литературного языка. Даже неупотребительные сейчас неполногласные прилагательные младой и хладный хорошо знакомы современному читателю через родственные слова (ср. младенец, и стар и млад, хладнокровие, прохладный и пр.). В целом ясны в нем с семантической точки зрения все слова. И все же некоторые из них имеют смысловую особенность, которую совершенно обязательно надо учитывать для правильного понимания текста. Особенно важно, если мы хотим увидеть стихотворение «Гражданин» в его истинном «содержательном» свете, понять политически маркированные «вольнолюбивые» слова, лексические единицы, какими являются в этом произведении Рылеева существительные гражданин, свобода, отчизна, народ, Брут и Риего. И здесь в первую очередь следует остановиться на слове гражданин, так как оно отражает главную тему стихотворения. Старославянское по своему происхождению слово гражданин здесь не имеет ни современного значения «подданный того или иного государства», ни архаического значения «горожанин» (это значение является этимологически исходным), а обозначает (появившись впервые как семантическая калька революционного французского citoyen у Радищева) патриота, превыше всего ставящего интересы родины и народа, борца «за угнетенную свободу человека» и справедливый социальный строй. Тема гражданина (и соответственный образ) была постоянной у Рылеева и ранее. Так, в думе «Волынский» Рылеев призывает: Отец семейства! приведи В думе «Державин» «высокий удел певца» Рылеевым, в частности, усматривается в том, что К неправде он кипит враждой, В стихотворении «Вере Николаевне Столыпиной» поэт заявляет: Священный долг перед тобою Стихотворение «Я не хочу любви твоей…» заканчивается следующим четверостишием: Любовь никак нейдет на ум. От стихотворных заветов Рылеева быть прежде всего гражданином – прямой путь к некрасовскому антитезному афоризму Поэтом можешь ты не быть, Но гражданином быть обязан, характерному для эпохи революционного народничества. Выразительный оборот Некрасова появился на свет под несомненным влиянием рылеевского словоупотребления. Противопоставляя гражданина живущей для себя молодежи «переродившихся славян», Рылеев горячо борется и за гражданское искусство, поэзию больших политических и воспитывающих тем. Отсюда противопоставление поэта, воспевающего любовь, праздность и негу, служение музам и т. д., поэту-гражданину: Прими ж плоды трудов моих… («Войнаровский») Личные имена Брут и Риего, заключающие финальное четверостишие, в качестве определенных поэтических образов дополняют и конкретизируют тему гражданина как борца за свободу. В образ Брута, древнеримского республиканца, сначала друга Цезаря, а затем, когда тот стал императором, одного из активных участников заговора против него (ср. выражение И ты, Брут!), декабристы вкладывали одно из заветнейших положений своей идеологической системы – о праве на восстание против тирана. Риего, вождь испанской революции 1820 г., казненный после ее подавления, был для Рылеева современным (и потому особенно наглядным) примером истинного сына отечества, подлинного гражданина, не пожалевшего для счастья народа собственной жизни. В образах Брута и Риего в концентрированном виде представлены и идея восстания против самовластья, и идея жертвенности во имя свободы отчизны, готовности, если надо, на верную смерть (идея, особенно сильно разработанная Рылеевым в поэме «Наливайко»). Образ Риего встречается у Рылеева только в «Гражданине». Образ Брута мы находим в нескольких произведениях, и в частности в сатире «К временщику» (Тиран, вострепещи! родиться может он, Иль Кассий, или Брут, иль, враг царей, Катон!), в оде «Гражданское мужество» (Лишь Рим, вселенной властелин. Сей край свободы и законов, Возмог произвести один И Брутов дух, и дух Катонов, Но нам ли унывать душой… ) и в поэме «Войнаровский» (Чтить Брута с детства я привык: Защитник Рима благородный, Душою истинно свободный, Делами истинно велик). Последнее понятно, так как в политической поэзии того времени образ Брута был уже ходячим. Неоднократно встречается он, например, в гражданской лирике А. С. Пушкина. «За звук один…» Читая и перечитывая М. Ю. Лермонтова, не перестаешь удивляться «благородной силе и святой прелести» его удивительно «живых», «простых и гордых слов», рожденных «из пламя и света» его вдохновенной души. И сейчас, спустя более полутора столетий после трагической смерти великого писателя земли русской, его чудесная поэзия и проза являются родными и кровными для нас своим пронзительным художественным совершенством, своей жизненной правдой и нравственной чистотой, своей высокой гражданственностью и глубоким лиризмом. И что самое примечательное, что привлекает особенно, – это настежь открытое сердце поэта. Его мысли и чувства открыты читателю и в нашу эпоху, несмотря на неумолимый бег времени, огромные социальные перемены и изменения в литературе как словесном искусстве. Такое поразительное на первый взгляд обстоятельство объясняется не столько тем, что Лермонтов в своих произведениях освещает принципиально важные всевременные и общечеловеческие вопросы, сколько тем, что его сочинения оказываются написанными, по существу, на современном русском литературном языке, «до странности» чистом от архаических и малоупотребительных (диалектизмов, жаргонизмов) фактов. «Как жемчуг нижутся слова», соразмерно и мерно льются святые звуки под пером Лермонтова, и подавляющее большинство слов хорошо нам известно, близко и понятно. Все это делает гениальные создания писателя до сих пор на редкость современными (и не только по прозрачному и ясному языку, но и по характеру идейного и эстетического их воздействия). И все же было бы неверным считать, что в художественной речи Лермонтова нет никаких сторонних нашему языковому сознанию фактов и явлений. Они все-таки есть. Это связано и с довольно значительной временной дистанцией, отделяющей нас от писателя, и с теми особенностями, которыми богаты язык художественной литературы в целом и поэтика Лермонтова в частности. Именно поэтому, читая и перечитывая бессмертные произведения навсегда молодого Лермонтова, надо всегда прочитывать их внимательно и придирчиво. Разберем пример, который нам предлагает заглавие данной новеллы. Речь пойдет о строке «За звук один волшебной речи…» из стихотворения «Как небеса, твой взор блистает…». Только остановившись и подумав, мы увидим и услышим, что кроется здесь за словом звук. Сейчас это слово имеет два актуальных общеупотребительных значения – «то, что мы слышим, т. е. слуховое ощущение колебательного движения чего-либо в окружающей среде» и «элементарная фонетическая единица языка». В разбираемом отрывке (речь всегда образуется из соответственно связанных друг с другом слов, а не звуков!) говорится о слове. Поэтому соответствующая строчка значит «за одно слово волшебной речи». Такое «словесное», а не «звуковое» значение у слова звук в поэзии первой половины XIX в. встречается очень часто (ср. у А. С. Пушкина: «Москва! Как много в этом звуке для сердца русского слилось!»). Такое значение этого слова наблюдается постоянно и у Лермонтова: «Замолкли звуки чудных песен»; «Тогда признательную руку в ответ на ваш приветный взор навстречу радостному звуку он в упоении простер» и т. д. Слова он весил осторожно Звук лермонтовской лиры всегда был прозрачно чистым, простым и афористически острым. Лермонтов как бы предвосхитил развитие русского литературного языка: так немного – по сравнению с другими поэтами первой половины XIX в. – у него архаического и неясного. «Странное» и постороннее встречается в его произведениях довольно редко, даже если их читаешь придирчивым глазом лингвиста. К языку и художественной форме он относился чрезвычайно обязательно и слова выбирал осторожно. И тем не менее, конечно, в его поэзии чужое нашей современной речи встречается, и в лингвистическом комментировании оно нуждается не менее, чем произведения других поэтов прошлого – время неумолимо идет вперед. Возьмем хотя бы справедливую по отношению к нему строчку названия заметки. Разве она не останавливает вас словом весил= Ведь мы бы сейчас сказали: взвешивал, обдумывал, выбирал. Наше весить значит «иметь какой-либо вес» и является непереходным глаголом. А у Лермонтова оно принадлежит уже к числу глаголов переходных и имеет иное, более абстрактное значение (семантику). Лермонтовское весил иное и семантически, и грамматически. И его как лексико-грамматической единицы в настоящее время просто нет, почему оно и не отмечено даже в академическом «Словаре русского языка» (под ред. А.П. Евгеньевой. 2-е изд. М., 1981. Т. 1). Добавим в конце заметки, что строчки «Слова он весил осторожно И опрометчив был в делах» из «Монго» являются частью самохарактеристики Лермонтова (по поэме – Маёшки), считавшего себя опрометчивым. Правильно ли без запятых? Первое известное нам стихотворение четырнадцатилетнего (!) М. Ю. Лермонтова «Осень» (1828) начинается следующим четверостишием: Листья в поле пожелтели, В нем все понятно, но не режет ли вам глаза третья строчка? Не привлекает ли к себе при вторичном прочтении слово поникши? Наверное, привлекает и удивляет. Кажется, что здесь то ли не хватает запятых перед и после слова, то ли буквы е в его конце. Может быть, это деепричастие совершенного вида (такое, как замерзши, принесши, испекши и т. д.)? В таком случае, почему тут нет запятых? Опечатка? Или Лермонтов не знал, что деепричастие в подобного рода случаях всегда на письме выделяется запятыми? Ни то, ни другое. Просто здесь поникши – не деепричастие, а прилагательное (из причастия), выступающее как определение к существительному ели. Но тогда, вы спросите, по какой причине отсутствует «заключительное» привычное е полных прилагательных (зеленые, высокие, стройные и т. д.)? По самой простой. Перед нами здесь не полное прилагательное (но и не краткое: краткое прилагательное выступает всегда в качестве сказуемого, см. в том же стихотворении: «Ночью месяц тускл и поле Сквозь туман лишь серебрит»), а так называемое усеченное. Усеченные прилагательные поэтами XVIII – первой половины XIX в. употреблялись очень активно и часто как одна из поэтических вольностей, «усекающих» лишний слог. Использовались такие прилагательные с чисто версификационными целями в пределах предложения на правах определений, а не сказуемых. Это самая яркая дифференциальная черта усеченных прилагательных, хотя от кратких прилагательных их отличало иногда также и ударение, всегда совпадающее с ударением «родительского» полного прилагательного. Исчезли они как регулярная поэтическая вольность только после преодоления Пушкиным и Лермонтовым традиций стихотворной речи XVIII в. С 40-х гг. XIX в. в русской поэтической практике они уже встречаются только изредка. У раннего Лермонтова их так же много, как и у раннего Пушкина. Вот несколько примеров: «Но долго, долго ум хранит Первоначальны впечатленья» («Поэт»), «Русы волосы кудрями Упадают средь ланит» («Портреты»), «Жизнь любит и юность румяную» (там же), «И пыхнет огнь на девственны ланиты» («Письмо»), «Я презрю песнопенья громки» («Наполеон») и т. д. Не напрасно о слове напрасно В современном русском литературном языке слово напрасно имеет значение «бесполезно» и входит в синонимический ряд бесполезно, зря, бестолку, всуе, попусту. Оно часто встречается в нашей речи, но кажется малоинтересным лингвистически. Однако пишу о нем я не напрасно. Слово это лишний раз свидетельствует о том, какое значение для познания существующей языковой системы имеет изучение ее истории. И ярким примером может служить употребление Лермонтовым слова напрасно в автобиографической поэме «Сашка». Помните отрывок об университете, списанный как бы с натуры: Бывало, только восемь бьет часов, Какое значение имеет здесь напрасно? Явно не наше. Притекшие (т. е. «пришедшие») студенты в аудитории. Переговариваются. Входит профессор, кланяется чинно. А как входит? Напрасно, т. е. «неожиданно, вдруг». Да-да! Слово напрасно обозначает здесь «неожиданно, вдруг, внезапно». Так и употреблялось раньше это слово не только Лермонтовым, но и другими поэтами и писателями (хотя у Пушкина известно только в современном значении). Более того, для нашего слова это значение является первоначальным от самого его рождения как лексической единицы. В древнерусском языке значение «вдруг, неожиданно» у него было просто единственным: Черноризець… въ един день здравъ сыи (= «существующий». – Н. Ш.), напрасно умре; Напрячь стрелу самострельную, юже испусти напрасно, ею же уязви в сердце его гневливое и т. д. А унаследовано оно было таким еще из общеславянского языка. Вот так встали у Лермонтова рядом новое, с Петровской эпохи, немецкое профессор и старинное, праславянское напрасно. Возможное заблуждение Грамматика меняется медленно, и устарелых фактов, скажем, морфологии в языке Лермонтова почти нет. Но не думайте все же, что в нем все, как у нас. В стихотворении «Заблуждение Купидона», написанном еще в Московском университетском пансионе (1828), одна грамматическая форма может ввести вас в заблуждение. Истинного ее значения вы можете просто не заметить, особенно при беглом чтении, когда по-настоящему в смысл не вникаешь. Вот заключительные горько-констатирующие строки, в которых она содержится: Так в наказаниях всегда почти бывает: Прочтите их внимательно. Все ли здесь «наше»? Где архаическая форма? Вы говорите: падет? Да, вы правы: перед нами мнимая форма будущего времени. В действительности мы имеем дело здесь с формой настоящего времени, только устаревшей, заброшенной нами на далекую периферию языка. О том, что падет – настоящее время от пасть, а не будущее (хотя актуальная и регулярная форма настоящего времени падает нас путает), совершенно очевидно говорит и «всевременной» характер афоризма, и наречие всегда, и настоящее время бывает. Возможно, что падет попала к Лермонтову в стихи как элемент традиционно-поэтической лексики (вместе с соответствующим грамматическим значением). Такое слово встречается, например, как форма настоящего времени неоднократно и в стихах Пушкина: Восходит к смерти Людовик («Вольность») Раздался девы жалкий стон, («Руслан и Людмила») О белых ночах В поэме «Сказка для детей» М. Ю. Лермонтова, которую Белинский, Гоголь и Огарев считали лучшим стихотворным произведением поэта, большую часть составляет следующий за авторским введением повествовательный монолог основного героя – нового Демона. В своей исповеди-рассказе он, в частности, говорит: Тому назад еще немного лет Внимательное чтение этой строфы дает нам исчерпывающий ответ на вопрос, поставленный в заглавии заметки. Пять конечных строк, не имеющих в своем составе ничего неизвестного и особого, сообщают нам только о том, что дело было, как говорится, не зимой: «Нева, журча, бежала к Финскому заливу». Точное (до месяца) время показывают предыдущие четыре строчки. Но для этого надо их читать не спеша и (если это вам неизвестно) узнать в словарях, какое значение имеет слово денница. Указанное существительное, о чем свидетельствуют все толковые словари, значит «утренняя заря» и является традиционно-поэтическим архаизмом (ср. у Пушкина в «Евгении Онегине»: «Блеснет заутра луч денницы, И заиграет яркий день…»). Слово денница встречается у Лермонтова уже в его первой поэме «Черкесы»: Денница, тихо поднимаясь, Теперь все ясно, если вы будете вникать в лермонтовский текст. Румяный запад – «солнечный закат», новая денница – «восход», и они сливаются вместе, рядом, как свиданье и разлука. Так это же очень искусное и выразительное описание белой ночи, когда вокруг не обычная темнота, а «странный полусвет»! Мы подходим к развязке. Герой пролетал над столицей, которой был тогда Петербург. Теперь надо вспомнить лишь, когда в этом городе бывают белые ночи. Если на свою память полностью не полагаться, можно заглянуть в Большой энциклопедический словарь. Там сказано: «В С. – Петербурге (ок. 60° с. ш.) белые ночи продолжаются с 11 июня по 2 июля». Как видим, все было летом, по тогдашнему календарю, в третьей декаде июня или первой декаде июля. 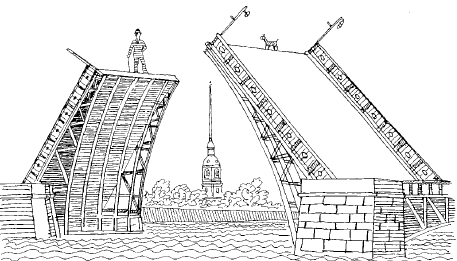 Лермонтовская зарисовка белой ночи перекликается с еще более пространным пушкинским описанием белых ночей в поэме «Медный всадник»: Люблю тебя, Петра творенье, Оба описания одинаково выразительны и лиричны. И все-таки какие они удивительно разные! С одной стороны, нарочито строгие и «прозаические» строки Пушкина. С другой стороны, расцвеченные слова Лермонтова, с чудесным и «странным» сравнением. Телескоп, виды и павильон Слова, значения которых сейчас не очень ясны, а иногда и вовсе неизвестны, могут быть самыми разными, однако все они относятся к лексической периферии. Все они не являются частотными, и потому или полузабытые «на полочке нашей памяти» лежат где-нибудь в самом закутке, или неизвестны совершенно, слова со стороны, чужие нашему языковому сознанию. Они могут быть и архаизмами, которые ныне сменили другие, более «молодые» и подходящие, и историзмами, которые ушли в пассивный фонд потому, что исчезли называемые ими предметы и явления, и территориально или социально ограниченными в своем функционировании средой или сферой общения единицами (диалектизмами, жаргонизмами, профессионализмами). Приведем и кратко объясним далее некоторые из них. Читаем первые страницы второй части романа «Героя нашего времени» Лермонтова – «Княжна Мери». Запись Печорина от 11 мая: «На крутой скале, где построен павильон, называемый Эоловой Арфой, торчали любители видов и наводили телескоп на Эльборус». В этом предложении надо смотреть в лингвистический микроскоп, чтобы не просмотреть «не наши слова». Хорошо виден разве только Эльборус с иной устаревшей огласовкой, чем в настоящее время, но тот же самый Эльбрус. Далее останавливает взор слово телескоп. Ясно, что речь идет здесь не о приборе для наблюдения небесных светил, а о самой обычной подзорной трубе. Увидеть, что слово виды в приведенной фразе имеет несовременное значение, можно, только уже в него как следует всмотревшись. Виды (множественное число) здесь «картины природы, пейзаж». Такое значение иллюстрируется современными толковыми словарями только из произведений XIX в. Вглядевшись, можно заметить, наконец, что со старым значением «беседка» угнездилось в этой фразе и существительное павильон. Как видим, в одном предложении нас поджидают четыре архаизма разной степени устарелости. Хлеб с маслом Речь далее пойдет о тех определениях, которые эти слова имеют в устах Печорина в романе «Княгиня Лиговская» Лермонтова. Вот интересующий нас отрывок:
Что это за чухонское масло и решетный хлеб? Перед нами два историзма, отражающие русский быт XIX в. Чухонское масло значит буквально «финское». Чухонцами (ср. в «Медном всаднике» А. С. Пушкина: «Приют убогого (= «бедного») чухонца) в Петербурге называли «пригородных финов» (ДальВ. И. Толковый словарь…). Чухонским маслом (в отличие от русского, т. е. топленого) называли обычное масло из сливок, сливочное масло, вроде того, которое мы сейчас называем крестьянским или любительским. Кстати, Чухонским иногда называли Чудское озеро, и не случайно, поскольку прилагательное чухонское является производным от чухно – «чухонец», экспрессивного образования на – хно (ср. образования типа Юхно < Юрий, Яхно < Яков, Михно < Михаил и т. д.) от чудь, названия североприбалтийских финских племен (ср. «Мера намерила, Чудь начудила» у Маяковского). Ну а что же решетный хлеб? Этот сорт хлеба непосредственно связан с решетом, поскольку его пекли из просеянной через решето муки. Слово решетный образовано от существительного решето, точь-в-точь как ситный – от сито, обозначающего то же решето, но только с более частой сеткой. Просеянная через решето мука всегда является более крупной, и, естественно, хлеб из нее более грубый, нежели из ситной муки, значительно более мелкой и нежной. О пирамидальном тополе Все, кто читал лермонтовского «Демона», никогда не забудут чудесное описание поэтом Грузии. Оно занимает всю четвертую строфу первой главы. Не будем приводить ее полностью. Процитируем лишь отрывок: Роскошной Грузии долины Прекрасные стихи, простые и ясные «святые звуки». И все-таки при замедленном их чтении внимательным читательским оком мы «наталкиваемся» в одном месте этого отрывка на словесную неясность, из-за которой текст в определенной мере теряет свою информационную простоту. Нет, это (хотя оно и немного озадачивает) не устарелые ударения в словах камней или венчанные, постановку которых – вопреки современным литературным нормам – предписывает нам принятый Лермонтовым в поэме размер. И конечно, не архаическое управление и значение глагола петь – «воспевать» (поют красавиц). Оно знакомо нам «из Маяковского» (ср.: «Пою мое отечество, республику мою!»). И тем более – не несколько неожиданная и свободная сочетаемость прилагательного безответный (безответные красавицы, а не безответная любовь, как мы сейчас бы сказали). Более того, этой словесной неясностью не являются даже лексические архаизмы кущи и сени, являющиеся у Лермонтова данью элегическому словарю первой четверти XIX в. Ведь контекст – правда, не совсем точно – позволяет нам все-таки понять сочетания кущи роз и чинар развесистые сени, пусть слова кущи и сени для современного носителя русского языка и могут связываться в их сознании со словами кусты и тень. В данном произведении существительные кущи и сени проявляют, как традиционно-поэтические слова, значения «заросли» и «лиственный покров деревьев, листва». Ну а заросли образуют кусты, листва же, естественно, дает тень! Так что же особенно вносит неясность в простоту приведенного отрывка из «Демона», создает преграду к его полному, исчерпывающему восприятию? Таким «подводным камнем» в стихотворной стихии Лермонтова здесь оказывается четвертая строчка – столпообразные раины. Что же значит это начальное звенышко в большой цепочке перечислений, живописующих долины Грузии? Сложное прилагательное столпообразные доходчиво: оно образовано с помощью словообразующего элемента– образный (по модели шарообразный, змееобразный, дугообразный, волнообразный и т. п.) от столп и значит «похожие на столп». Какие же реалии (а из «прилагательности» столпообразные и его формы множественного числа видно, что далее идет существительное) называет слово раины? Вот тут нам даже самое придирчивое чтение текста ни капельки не поможет. Неясна сама категориальная сущность обозначаемых предметов: создания ли это человека или какие-либо явления природы? Все темно во облацех! Может быть, это как раз тот случай, когда, по словам поэта, «Есть речи значенье темно иль ничтожно, но им без волненья Внимать невозможно». Оставим на минутку «Демона» и возьмем в руки либо словарь В. И. Даля, либо 17-томный академический «Словарь современного русского языка», так свободно и часто (к нашему счастью!) включающий в себя несовременные слова. В них мы найдем прозаический ответ, что необычайно странная столпообразная раина всего-навсего ботанический термин, который обозначает «пирамидальный тополь». Встречается это слово в поэзии первой половины XIX в. и у Н.М. Языкова: Вот и Ломбардия! Веселые долины, В заключение несколько слов об этом темном слове вообще. Оно является темным и в разбираемом тексте (по своему лексическому значению), и вне его (правда, уже по своему происхождению). Надежного объяснения происхождения этого существительного еще нет, и раскрыть его родословную предстоит. Если иметь в виду, что слово рай имело значение «сад», а сад обозначало также и «растение, дерево» (ср. диалектное рай-дерево – «алтайская, душистая осокорь, пахучий тополь»), то можно пока остановиться на предположении, что существительное раина – суффиксальное производное от рай (= «дерево») с помощью суффикса– ин(а) по модели осина, бузина, маслина и т. д. Сапоги его скрыпели Давайте вспомним дневниковую запись Печорина от 5 июня в романе М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени». Она начинается с описания Грушницкого, когда он, после производства в офицеры, впервые появляется в офицерской форме:
В этом язвительном описании неизвестных современному читателю слов как будто нет. И тем не менее вряд ли вы полностью представляете изображаемую Лермонтовым картину вырядившегося Грушницкого. И дело здесь не только в том, что для правильного понимания необходимо хорошо знать значения слов и словосочетаний эполеты, крылышки амура и двойной лорнет. Нужно иметь в виду также и то, что непонятное может «прятаться» в самых понятных, обычных и обыденных словах. Однако обо все по порядку. Значение слова эполеты, наверное, вам известно. Эполеты – это погоны с парадным шитьем, но погоны офицерские, поэтому слово эполеты ранее часто употреблялось как указание на принадлежность к офицерству:
Сравните подобное употребление у Пушкина:
Чтобы воочию увидеть эти «неимоверной величины» эполеты у Грушницкого, надо также вспомнить крылышки амура, т. е. живописные и скульптурные изображения древнегреческого ифологического бога любви Амура в виде голого кудрявого мальчика с крылышками за спиной. Теперь обратим внимание еще на одну деталь в портрете Грушницкого. На бронзовой цепочке щеголя висел двойной лорнет. Точное значение этого словосочетания и соответствующее зрительное представление вам дадут словарь В. И. Даля, «Словарь языка Пушкина» и контекст, взятые вместе. Лорнет – «складные очки в оправе». В принципе он может быть, как указывает В. И. Даль, и с ручкой, и на цепочке. У Грушницкого – на бронзовой цепочке. «Словарь языка Пушкина» утверждает, что у Онегина был двойной лорнет с ручкой (Двойной лорнет, скосясь, наводит На ложи незнакомых дам…). Судить о том, каким двойным лорнетом пользовался Онегин, мы не можем: контекст не дает для этого никаких, даже косвенных, показаний. Цепочка могла быть и у него! А теперь – о том, что в словесном отношении не содержит в себе ничего несовременного, что совершенно понятно и в то же время не позволяет нам до конца и адекватно понять сообщаемое, коль скоро мы не знаем того, что заключено в так называемых «фоновых» долях значения слов, отражающих культурно-исторические факты. У Лермонтова в разбираемом отрывке подобное наблюдается в предложении Сапоги его скрыпели. Оно является не простой констатацией факта скрипения. В противном случае эта фраза была бы лишней. Она имеет второй – очень информативный – план, являясь органической частью описания празднично-франтоватого костюма Грушницкого. Ведь в ней Лермонтов сообщает нам, что у его героя были также (вместе с двойным лорнетом, цепочкой, эполетами) и сапоги со скрипом, т. е. особые щегольские сапоги, по-особому сшитые сапожником, которые обычно надевались по праздникам. Вот что сообщает об этом в своем «Толковом словаре…» В. И.Даль: «Скрып, в сапогах, по заказу давальцев (т. е. заказчиков. – Н. Ш.), лоскутки кожи, вымоченные в уксусе, пересыпанные серой и вложенные меж стельки и подошвы» – и приводит далее характерную пословицу Сапожки со скрыпом, а каша без масла. Как видим, предложение Сапоги его скрыпели – важный штрих в лермонтовском рисунке безвкусно одетого, расфранченного Грушницкого. О двух словах драгунского капитана Этот случайно подслушанный Печориным разговор, имевший роковое значение для Грушницкого, помнят, несомненно, все, кто читал «Героя нашего времени». Вот его начало: Драгунский капитан… ударил по столу кулаком, требуя внимания.
Что же в этом отрывке останавливает нас в стремлении понять его полностью и до конца? Какие слова здесь могут помешать доверительному разговору великого русского писателя с современным читателем? Во-первых, в приведенном отрывке есть лексико-семантический архаизм – существительное свет. Правда, оно – несмотря на свою устарелость – большинству хорошо знакомо по классической литературе; свет – это «светское общество». На память сразу же приходит неоднократное употребление слова в этом значении А. С.Пушкиным в «Евгении Онегине». Два примера: Вот мой Онегин на свободе; Ясно, что здесь Пушкин говорит о появлении Онегина в светском обществе. То же светское общество ы види и в других строчках: Нет: рано чувства в не остыли; Какой же архаизм еще стоит между нами и процитированным текстом? Таким выступает слово слетки. В принципе оно для нас – архаизм собственно лексический, так как существующее сейчас слово слетка (множественное число – слетки) подавляющему большинству людей не известно. И это понятно: оно находится на далекой словарной периферии и является «своим» только для охотников и орнитологов (т. е. ученых, занимающихся изучение птиц). У них слово слетка обозначает молодую птицу, только начинающую вылетать из родительского гнезда. В наше контексте данное птичье имя означает молодого человека. Для слова слетка это переносное значение ныне устарелое, архаическое. Следовательно, предложение «Эти петербургские слетки всегда зазнаются…» почти равно предложению «Эти петербургские молодые люди всегда зазнаются».  Рисунок М. Ю. Лермонтова к роману «Герой нашего времени» «Почти» потому, что слетка – не нейтральное обозначение молодого человека, а пренебрежительное, эмоционально окрашенное. По своему происхождению оно аналогично другим «животным» наименованиям человека с той или иной отрицательной в эмоциональном плане оценкой, таким, как клуша, попугай, сорока, цыпленок, щенок, сосунок, змееныш и т. п. Как пренебрежительное обозначение молодого человека существительное слетка близко по значению словам типа молокосос, сосунок, щенок, мальчишка (ср. у А.П.Чехова в рассказе «Месть»: «Молокосос… – думал он, сердито ломая мелок. – Мальчишка…»). Неясный ропот В современном русском литературном языке существительное ропот неотделимо от глагола роптать. Ведь слово ропот действительно имеет значение «негромкая и невнятная речь недовольства», «речевое выражение отрицательного отношения к чему– или кому-либо». Такое же значение наблюдаем мы у этого слова и в древнерусском языке. Но вот мы вновь раскрываем роман «Герой нашего времени» М. Ю. Лермонтова:
И (если мы не скользим по тексту, а действительно его читаем) натыкаемся на ропот… похвал! Что это такое? Те, кто слушал пение княжны Мери (кроме Печорина), когда она кончила, стали ее хвалить. Значит? Значит, у слова ропот в лермонтовском употреблении здесь иное значение. Его можно определить как «шум, гул; слова, говор». Вокруг Мери раздались (искренние или неискренние – неважно) слова похвалы. Аналогичное значение имеет это слово у Лермонтова и в дальнейшем изложении: «Вокруг Грушницкого раздался ропот недоверчивости». Как объяснить такое непривычное для нас использование слова ропот Лермонтовым? Ошибка это? Или его индивидуально-авторский неологизм? Как показывают данные древнерусского языка, ни то, ни другое. Писатель использовал здесь слово ропот в том значении, которое было известно издавна. Правда, он все же свое личное «я» здесь высказал: оно выразилось в расширении им сочетаемостных границ существительного ропот. Поэт смело поставил рядом со словом ропот отвлеченное существительное в родительном падеже (похвал, недоверчивости), тогда как обычно за этим словом следует (точно в том же падеже) существительное конкретное. Последнее встречается и у Лермонтова. Так, например, слово ропот в значении «неясный гул, шум» мы встречаем в «Тамани»: «Передо мной тянулось ночною бурею взволнованное море, однообразный шум его, подобный ропоту засыпающего города, напоминал мне старые годы, перенес мои мысли на север, в нашу холодную столицу»; «Берег обрывом спускался к морю почти у самых стен ее, и внизу с беспрерывным ропотом плескались темно-синие волны». Синонимическое слову ропот существительное роптанье как производное от глагола роптать ожидает нас и в поэме «Демон»: … И стихло все; издалека О двух строчках из стихотворения М. Ю. Лермонтова «Смерть Поэта» «Лермонтовская строчка Угас, как светоч, дивный гений хорошо всем знакома. Вот ее непосредственное словесное окружение из замечательного стихотворения, написанного поэтом на смерть А. С.Пушкина: Что ж? веселитесь… он мучений Перед нами четверостишие, заканчивающее первую часть горького и гневного поэтического некролога, произнесенного М. Ю. Лермонтовым во весь голос поэта и гражданина и на всю читательскую Россию того времени. В этой части наша строчка выделяется тем, что она содержит единственное образное сравнение данного произведения – как светоч. Обращали ли вы внимание на выразительность, поэтический характер и лиричность этого сравнения? Ведь в строчке, его заключающей, в слове светоч просвечивает его прежняя семантика, близкая к этимологически исходному значению, а вовсе не та, которую оно имеет сейчас. В настоящее время существительное светоч значит «носитель» и в своем употреблении является фразеологически связанным. Как определенная лексическая единица со значением «носитель» оно реализуется лишь с родительным падежом немногих абстрактных существительных положительной семантики (мир, прогресс, свобода, правда и т. д.): светоч мира, светоч правды и пр. В лермонтовском сравнении тоже есть светоч, но это, как говорят, Федот, да не тот. В нем этому слову свойственно старое, ныне уже архаическое значение «свеча, лучина, факел» – «все то, что, горя, освещает». Благодаря этому в строчке Угас, как светоч, дивный гений глагол угас, имеющий в качестве факта традиционно-поэтической лексики переносное значение «умер» (ср. у Пушкина в стихотворении «Была пора: наш праздник молодой…»: И на скале изгнанником забвенным, Всему чужой, угас (= «умер») Наполеон), как бы получает также и свое исходное, прямое значение «потух, перестал гореть». Возникшее в результате сравнения (как светоч) двойное содержание глагола угас позволяет Лермонтову снять со строчки налет поэтической условности и дать зрительно очень яркую и выразительную картину, воскрешающую в памяти образы народных песен (ср.: Догорай, гори, моя лучина, догорю с тобой и я…; Словно свечка восковая угасает жизнь моя и т. д.). Правда, по всей вероятности, разбираемая нами строчка не восходит непосредственно к фольклору, а представляет собой творческую трансформу элегического словоупотребления предшественников. Вспомните, например, отрывок из поэмы «Кавказский пленник» А. С. Пушкина: И гасну я, как пламень дымный, Подобного характера и соответствующие строчки из его элегии «Я видел смерть…» (1816): Уж гаснет пламень мой, Заметим, что и в следующей строчке стихотворения Лермонтова «Смерть Поэта» глагол имеет аналогичную семантику (увял = «умер»), так же совмещенную с прямой и исходной (увял = «засох»): увял торжественный венок. Подобное оживление метафорической сущности слова увял, причем развернутое в целый образ, на котором строится все стихотворение, находим у Пушкина, ср. заключительные строчки «Цветка» (1828): И жив ли тот, и та жива ли? Строчки Угас, как светоч, дивный гений, Увял торжественный венок образуют единое целое и в смысловом, и в образном отношении, выступая в виде конструкций с синонимическими глаголами (угас, увял), в которых одновременно – благодаря сравнению как светоч и метонимии торжественный венок – выступают и их исходные, прямые значения. Заключая первую скорбную часть стихотворения, они осознаются как последний и наиболее выразительный аккорд, подытоживающий тот синонимический ряд обозначений смерти поэта, на котором, собственно говоря, вся эта часть стихотворения и строится (погиб… пал… убит…). 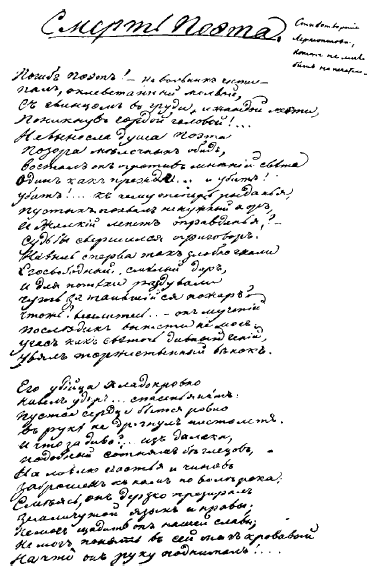 Беловой автограф «Смерти Поэта» (без заключительных строк). С пометой В. Ф. Одоевского В заключение следует сказать, что обе разобранные строчки из стихотворения «Смерть Поэта» (как и многое другое, что в нем содержится), несомненно, являются очень своеобразным и самобытным «переплавом» пушкинских строк (ср.: И он убит – и взят могилой, Как тот певец, неведомый, но милый, Добыча ревности глухой, Воспетый им с такою чудной силой, Сраженный, как и он, безжалостной рукой) о Ленском (гл. VI): Дохнула буря, цвет прекрасный Слова цвет прекрасный увял транспонируются в увял торжественный венок, а сочетание потух огонь на алтаре дает жизнь строчке Угас, как светоч, дивный гений. Наконец, несколько слов о слове светоч в словообразовательно-этимологическом аспекте. Это существительное в своем прямом значении («то, что, горя, освещает; факел, свеча, лучина») возникло, как и слово свеча, в качестве суффиксального производного от слова свет. Правда, первоначально в нем выделялся не суффикс– оч-, как сейчас, а суффикс – ыч-. Как видим, лингвистический анализ слова светоч и его соседей позволяет правильнее и глубже понять образную структуру и художественные особенности начальной части «Смерти Поэта». Рассмотрение под лингвистическим микроскопом существительных суд и правда и их производных (судия и праведная), а также окружающих их слов имеет еще большее значение, так как помогает уже понять истинное содержание последней части стихотворения и установить ее подлинный текст. А это ведь пока толкуется лермонтоведами по-разному. И в тексте стихотворения то мы встречаемся с трехкратным употреблением слова суд, то рядом с ним в третий раз появляется уже слово судия. Но об этом читайте уже в следующей заметке. Грозный суд или грозный судия? В различных изданиях сочинений Лермонтова одна из строк заключительной части «Смерти Поэта» дается по-разному. То мы читаем: Есть грозный судия: он ждет (см., например: Лермонтов М.Ю. Полн. собр. соч. М., 1947. Т. 1. С. 20), то находим: Есть грозный суд: он ждет (см. хотя бы: Лермонтов М.Ю. Собр. соч. М., 1964. Т. 1. С. 23). Эти разночтения существуют, конечно, прежде всего потому, что автограф последней части стихотворения не сохранился и текст печатается по спискам и воспоминаниям. А списки и воспоминания могут быть разные: и по достоверности, и по качеству. Однако думается, что указанные разночтения объясняются также и другими причинами: самим контекстом позднейшего дополнения к первоначальному варианту стихотворения и его различным чтением (а значит, и толкованием). Особенно четко и наглядно это можно наблюдать в комментарии разбираемого стихотворения М. Ю. Лермонтова И. Л. Андрониковым. Им принимается чтение соответствующего отрывка с сочетанием грозный суд: Но есть и Божий суд, наперсники разврата, По его мнению, сочетание грозный суд, известное в списках, меняет смысл заключительных строк: грозный судия после Божьего суда ассоциировался с судией небесным. Получалось, что палачей свободы должен покарать Бог, что их ждет загробная кара. Грозный суд, о котором говорит Лермонтов, – это суд истории. Такой смысл подтверждает текст стихотворения П. Гвоздева, написавшего свой ответ на лермонтовское стихотворение 22 февраля 1837 г.: Не ты ль сказал: «есть грозный суд!» И этот суд есть суд потомства (см.: Лермонтов М.Ю. Собр. соч. М., 1964. Т. 1. С. 563). Приводимые доказательства в защиту сочетания грозный суд (а не грозный судия), как видим, носят внетекстовой характер и целиком опираются не на внимательное чтение заключительных шестнадцати строк «Смерти Поэта» и учет характерных для Лермонтова поэтических формул и употреблений, а на сторонние для произведения факты (вроде списков и риторического вопроса в стихотворении П. Гвоздева) и их предвзятое и субъективное истолкование, а поэтому доказательными аргументами на самом деле не являются. Перечитаем только что приведенную цитату из рассуждений И. Л. Андроникова. Весь их смысл сводится к тому, что в том случае, если мы примем чтение грозный судия, а не грозный суд, то получится (?!), что палачей Свободы, Гения и Славы должен покарать Бог, а этого (упаси Боже!) Лермонтов никак сказать не мог. Почему? Да потому, что грозный суд, о котором говорит Лермонтов, – это суд истории. Не верите? Так посмотрите стихотворение юнкера П. Гвоздева: оно точно цитирует соответствующее место и не менее точно передает его смысл. Правда, некоторые литературоведы считают гвоздевскую интерпретацию стихотворения поэта вольной и неверной, поскольку она была «не на высоте лермонтовской идеи», отодвигала «в неопределенность то, что у Лермонтова происходит (или произойдет!) на наших глазах, – вот сейчас свершится или уже совершается. Лермонтов не случайно избежал слова потомство – оно затягивало и растягивало отмщение» (Архипов Вл. М. Ю. Лермонтов. Поэзия познания и действия. М., 1965. С. 297–298). Но это неважно. Надо, чтобы получился тот смысл, который хочется видеть. Кстати, совершенно непонятно, почему И. Л. Андроников считает, что Божий суд (Но есть и Божий суд!) является обязательно символом только загробной кары. Вл. Архипов (другое дело – насколько основательно) смотрит на это совершенно иначе: «Здесь, вне сомнения, образ Божества выступает лишь как облачение идеи революции… Это мы встретим и у Радищева, и у поэтов-декабристов, а равно и у Некрасова. Сознание своего права на восстание еще нуждается в высшей санкции, в санкции Божества». Последнее появляется у Лермонтова «как неотъемлемый элемент народной психологии, народных представлений. Это – менее всего религиозный Бог, карающий непослушных рабов, требующий смирения и подчинения высшим. Это – Бог восставших. Бог поднимающихся рабов, ищущих справедливого возмездия за все свои страдания и муки…». Неясно также и то, почему (придавая почти решающее значение в данном вопросе стихотворению П. Гвоздева) И. Л. Андроников не учитывает очень важные для нас объяснения, которые давал С. А. Раевский на судебном допросе, когда появилось дело о «непозволительных стихах». К больному Лермонтову пришел его родственник камер-юнкер Н. А. Столыпин. Разговор зашел о смерти Пушкина. Столыпин всячески защищал Дантеса. Лермонтов горячился и негодовал. «Разговор шел жарче, молодой камер-юнкер Столыпин сообщил, что иностранцам дела нет до поэзии Пушкина, что дипломаты свободны от внешних законов, что Дантес и Геккерен, будучи знатными иностранцами, не подлежат ни законам, ни суду русскому. Разговор принял было юридическое направление, но Лермонтов прервал его словами, которые после почти вполне поместил в стихах: «если над ними нет закона и суда земного, если они палачи гения, то есть Божий суд». Разговор прекратился, а вечером, возвратясь из гостей, я нашел у Лермонтова и известное прибавление, в котором явно выражался весь спор» (цит. по кн.: Розанов И. Н. Лермонтов – мастер стиха. М., 1942. С.102). Но достаточно литературоведческих цитаций, вернемся к лермонтовскому «железному стиху», «облитому горечью и злостью». Прочтем еще раз внимательно заключительные строки «Смерти Поэта» и заглянем в произведения Лермонтова более раннего времени, в их лексический и образный фонд. Тогда мы увидим, что текстологическое решение И. Л. Андроникова принять нельзя: оно противоречит и логике текста, и логике лермонтовской поэтики. Начнем с второстепенного, но тем не менее обращающего на себя внимание факта. Строчка в виде Есть грозный суд: он ждет явно и недвусмысленно выпадает из метрической системы. Силлаботонический ряд Есть грозный суд: он ждет диссонирует со всеми остальными, поскольку он оказывается короче на два слога даже тех, которые неразрывно связаны с ним и по смыслу, и версификационно. Что же касается чтения Есть грозный судия: он ждет, то оно не только органически «симфонирует» первой строчке (А вы, надменные потомки) и непосредственно следующей (Он не доступен звону злата), но и полностью метрически повторяется в последних рифмующихся строчках стихотворения (Оно вам не поможет вновь – Поэта праведную кровь!). Но главное – строчка мысли и дела он знает наперед: наперед все может знать только Бог (ср.: Бог ему судья). В гостях у архаической лексики поэмы «Руслан и Людмила» А теперь, «друзья Людмилы и Руслана», обратимся к тексту замечательной пушкинской поэмы «Руслан и Людмила», открывшей читательской общественности великого русского поэта. Эту поэму читают уже в раннем детстве, «проходят» на первом этапе школьной жизни. И язык ее представляется многим очень простым и ясным. В целом так оно и есть. Однако если глубоко окунуться в языковую стихию поэмы, то сразу видно, что «там чудеса» и на многих страницах постоянно встречаются «следы невиданных или неведомых» слов. Несколько примеров. Вот мы читаем наставление старца Руслану: «Вперед! Мечом и грудью смелой Свой путь на полночь пробивай». В приведенном предложении нам встречается лексико-семантический архаизм на полночь – «на север». Вспомните пушкинские строчки из «Воспоминаний в Царском Селе»: «Не се ль Элизиум полнощные Прекрасный царскосельский сад», т. е. «Не это ли северный рай – прекрасный царскосельский сад». Читайте поэму «Руслан и Людмила» дальше: там то же прилагательное входит в сопутствующую перифразу, уточняющую как приложение врага Руслана Черномора: Узнай, Руслан: твой оскорбитель То же по значению слово полнощный встречается нам в поэме и позднее: «Уж утро хладное сияло На темени полнощных гор». Следуем дальше. Перед нами авторские слова: Довольно… благо, мне не надо Здесь мы сталкиваемся с архаизмом предупредила, вместо которого мы бы использовали в настоящее время глаголы «упредила» или «опередила». А вот как будто известное (довольно часто, во всяком случае, виденное) слово супостат: В кровавых битвах супостата В этом отрывке оно имеет значение «противник» и стилистически совершенно нейтрально. А ведь в современном языке оно является просторечным и бранным словом и очень экспрессивно. Читаем описание А. С. Пушкиным пребывания Ратмира в замке «на скалах»: Я вижу терем отдаленный, Здесь есть несколько лексических архаизмов, но они вам более или менее знакомы, коль скоро вы хоть изредка читаете стихи: эти слова мелькают как дань поэтическому прошлому и в произведениях современных поэтов. К ним относятся чело – «лоб», ланиты – «щеки», уста – «губы», лобзанье – «поцелуй», покровы – «одежда». Понятна и характерна для Пушкина перифраза вкушает одинокий сон – «спит один». Галстук и галстух Читаем повесть «Невский проспект» и вместе с Н. В. Гоголем совершаем экскурсию по Невскому проспекту, «всемогущему Невскому проспекту», этой «всеобщей коммуникации Петербурга». Самые разнообразные и удивительные картины рисует нам писатель. На третьей странице наше внимание невольно останавливают две фразы, в которых дается описание внешности и одежды различных прохожих. Уж очень странны – с точки зрения нашей смысловой системы – встречающиеся здесь сочетания слов с существительным галстук. Вот они: «В это время, что бы вы на себя ни надели, хотя бы даже вместо шляпы картуз был у вас на голове, хотя бы воротнички слишком далеко высунулись из вашего галстука, – никто этого не заметит»; «Вы здесь встретите бакенбарды единственные, пропущенные с необыкновенным и изумительным искусством под галстук, бакенбарды бархатные, атласные, черные, как соболь или уголь…» Действительно, как могут высунуться из галстука воротнички? В самом деле, как можно («с необыкновенным и изумительным искусством»!) пропустить под галстук бакенбарды? Ведь галстук завязывается и лежит под воротником рубахи! Может быть, это какая-то словесная нелепица у Гоголя? Ничего подобного. Все у него правильно. А вводит нас в заблуждение… современный ленточный галстук, который сейчас носим мы. Фактически галстук, о котором пишет здесь Гоголь, весьма отдаленно напоминает наш и галстуком в нашем представлении не является. Ленточные галстуки современного типа появляются только в 60-е гг. XIX в. Во времена Гоголя, как и вообще в первой половине XIX в., галстук представлял собой шейный платок, своеобразную деталь костюма в виде косынки или шарфа вокруг шеи. В 17-томном академическом «Словаре современного русского литературного языка» в качестве иллюстрации употребления слова галстук в современном значении приводится пример из романа И. А.Гончарова «Обломов»: «Обломов всегда ходил дома без галстуха и без жилета, потому что любил простор и приволье» (часть I, глава 1). Пример приводится неверно, так как первая часть романа писалась в 1846–1849 гг. Наше слово называет у И. А. Гончарова так же, как и в романе «Обрыв» («Уже сели за стол, когда пришел Николай Васильевич, одетый в коротенький сюртук, с безукоризненно завязанным галстухом…»), галстук «платкового» типа и имеет тем самым старое значение – «шейный платок». О шейном платке говорится, естественно, в романах М. Ю. Лермонтова «Княгиня Лиговская» («Дипломат вынул из-за галстуха лорнет, прищурился, наводил его в разных направлениях на темный холст и заключил тем, что это, должно быть, копия с Рембрандта или Мюрилла») и И. С.Тургенева «Отцы и дети» («…В это мгновение вошел в гостиную человек среднего роста, одетый в темный английский сьют (костюм. – Н. Ш.), модный низенький галстух и лаковые полусапожки»). Ведь эти романы создавались соответственно в 1836–1838 гг. и в 1860–1861 гг. Между прочим, в таком же значении слово галстук приводится и в «Толковом словаре…» В. И.Даля. Вы, наверное, обратили уже внимание, что в приведенных примерах из романов Гончарова, Лермонтова и Тургенева – в отличие от Гоголя – наше слово пишется (а значит, и произносится) с х – галстух. Наряду с галстук, эту форму как параллельную указывает и В. И.Даль. Обе формы встречаются и у Пушкина, и у всех названных писателей. Ныне уже устаревшая форма галстух для рассматриваемого слова является первоначальной и, более того, этимологически абсолютно правильной, поскольку данное существительное было заимствовано (в XVIII в.) из немецкого языка. Оно точно передает немецкое Halstuch не только в фонетическом отношении, но и в смысловом (Halstuch является сложением слов Hals – «шея» и Tuch – «платок»). Современное слово галстук с к на конце появилось (как и фартук < нем. Vortuch – «передник»; vor – «перед», Tuch – «платок») в результате контаминации различных вариантов этого заимствования (ср. употреблявшуюся в конце XVIII в. форму галздук голландского происхождения). Приведем еще один очень интересный пример из романа «Дворянское гнездо» И. С. Тургенева, где Гедеоновский выступает перед нами сразу в… двух галстуках: «Вошел человек высокого роста, в опрятном сюртуке, коротеньких панталонах, серых замшевых перчатках и двух галстуках – одном черном сверху, другом белом снизу». В XIX в. наряду со словом галстук в том же старом значении «шейный платок» широко употребляется также и фразеологический оборот шейный платок, который является такой же калькой (т. е. точным переводом по частям слова) соответствующего немецкого слова, как фразеологизмы типа детский сад (< Kindergarten – Kinder – «дети», Garten – «сад») и т. п. Так, у И. С. Тургенева в романе «Дворянское гнездо» читаем: «Он надел коротенький табачного цвета фрак с острым хвостиком, туго затянул свой шейный платок и беспрестанно откашливался и сторонился с приятным и приветливым видом». В повести К. М. Станюковича «Севастопольский мальчик» мы встречаем пример употребления выражения шейный платок – «галстук косыночного или «шарфного» типа» еще более интересный: как и у Гоголя, в этом предложении говорится о галстуке и выступающих из-под него (!) воротничках: «Он (Нахимов. – Н. Ш.) был в потертом сюртуке с адмиральскими эполетами, с большим белым георгиевским крестом на шее. Из-под черного шейного платка белели «лиселя», как называли черноморские моряки воротнички сорочки, которые выставляли, несмотря на строгую форму николаевского времени, запрещавшую показывать воротнички». Что такое пальто? М ы начинаем читать «Обрыв» И. А. Гончарова. Писатель неторопливо рассказывает нам о своих героях – Борисе Павловиче Райском и Иване Ивановиче Аянове. Остановимся на пятом абзаце: «Райский одет был в домашнее серенькое пальто, сидел с ногами на диване. Иван Иванович был, напротив, во фраке». Не правда ли, первое предложение, если задуматься, довольно странное? С одной стороны, не совсем понятно поведение светского Райского, сидящего в комнате в пальто «с ногами на диване». С другой стороны, при медленном чтении обращает на себя внимание сочетание домашнее пальто. Ведь для нас пальто – «верхняя одежда для улицы». Еще более настораживает первая «персонажная» фраза в романе, произнесенная Аяновым («Не пора ли одеваться: четверть пятого!») и следующее далее авторское предложение: «Райский стал одеваться». Ведь Райский как будто предстает перед нами одетым: в пальто уже. Правда, пальто – домашнее. В чем же здесь, наконец, дело? 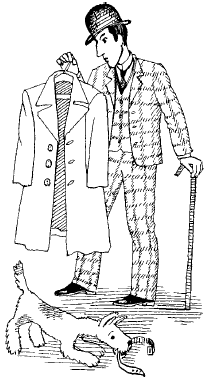 Дело все в том, что домашнее пальто – вовсе не пальто. Во времена Гончарова «французское весьма неудобное для нас», как говорил в «Толковом словаре…» В. И.Даль, слово пальто могло называть и мужскую домашнюю одежду типа халата. Поэтому-то Райский, не нарушая нормы приличия, и мог сидеть в домашнем пальто (т. е. в халате) с ногами на диване! И ему, конечно, идя в гости, надо было одеваться. Как видим, в существительном пальто выступает перед нами «коварный» знакомец – слово, постоянно употребляемое и нами, но имеющее здесь устаревшее, неактуальное сейчас значение. Совсем о другом пальто говорит (в гостях у Пахотиных) Аянов Николаю Васильевичу: «Вы напрасно рискуете. Я в теплом пальто озяб». Речь уже идет о том пальто, которое как верхняя одежда есть у каждого из нас. И слово пальто тут имеет наше, современное, привычное всем значение. Заметим, что у Гончарова слово пальто (и в старом, и в нынешнем смысле) относится, как и у нас, по правилам русской грамматики к существительным среднего рода. У некоторых писателей в XIX в. оно встречается и в иной форме, передавая мужской род слова paletot, заимствованного нашим языком из французского языка: «На мне был теплый пальто и теплые калоши» (Герцен А. И. Былое и думы). Этот исходный мужской род у слова пальто не сохранился: оно подверглось аналогичному воздействию исконных существительных на – о типа стекло, окно и т. д. Еще об одном названии одежды «Читая рассказ «Попрыгунья» А. П. Чехова, мы не испытываем, по существу, никаких языковых затруднений: таким по-чеховски ясным, простым и современным языком он написан. И все же и в нем попадаются единичные случаи, могущие поставить нас в тупик. Пусть (если мы читаем серьезно и замедленно) ненадолго. Вот одно из таких мест:
Что же, кроме шляпы, в своем возбужденном состоянии не сняла – вопреки обычаю – Ольга Ивановна? Вероятно, пальто. Но какое? Не прибегая к словарям, вспомним предшествующие события. Пятый раздел рассказа начинается так:
И далее:
Из этого логично сделать предположение, что, уезжая с художниками на Волгу, «попрыгунья» захватила с собой дождевик, т. е. непромокаемое пальто. Значит, ватерпруф обозначает «непромокаемое пальто», или «плащ». Наше предположение сразу же превратится в уверенность, если мы занимаемся английским языком, так как water по-английски значит «вода», а proof – «выдерживающий испытание». Англ. water-proof буквально – «выдерживающий испытание водой». Впроче, наша догадка (и без знания английского языка) ведет нас по этому пути, если мы припомним известные нам слова с ватер-, в которых ватер нам хорошо известно как синоним слова вода (ср. ватерлиния, ватерполо). Таким образом, Ольга Ивановна и в гостиной, и в столовой не сняла «непромокаемого пальто». С этим же словом мы встречаемся, читая роман «Воскресенье» Л. Н. Толстого:
Аграфена Петровна в ватерпруфе и шляпе тоже была в помещении, но это уже была вокзальная столовая, через которую вместе со всеми она шла на перрон. Заметим попутно, что наше прилагательное водонепроницаемое, несомненно, является неточной калькой английского прилагательного: по форме последнее совпадает с соответствующим существительным. Разобранный пример – яркое доказательство большой пользы замедленного чтения художественного текста. Кстати, слово ватерпруф вы не найдете ни в одно издании «Словаря русского языка» С. И. Ожегова, нет его, и в академическом 4-томном «Словаре русского языка». Из толковых словарей вы его обнаружите только в большом 17-томном словаре АН СССР. И это понятно: слово ватерпруф давно стало архаизмом и ему на смену пришли другие: дождевик и плащ. По этим причинам слово попало в «Школьный словарь устаревших слов» Р.П. Рогожниковой, Т. С. Карской (М., 1996). Разные написания в кавычках С чем только в языковом плане мы не сталкиваемся, читая роман «Отцы и дети» И. С. Тургенева! И все это несмотря на очень современный и чистый, «великий и могучий русский язык» данного произведения. Здесь и историзмы, т. е. названия исчезнувших ныне предметов и явлений, и устаревшие наименования вещей, существующих и сейчас (лексические архаизмы), и слова с совершенно иными, нежели те, которые они имеют в настоящее время, значениями (лексико-семантические архаизмы), и факты не нашей грамматики. Приведем несколько примеров. «Я с северной стороны над балконом большую маркизу приделал, – промолвил Николай Петрович, – теперь и обедать можно на воздухе» (маркиза – «навес»); «– Господа, господа, пожалуйста, без личностей! – воскликнул Николай Петрович и приподнялся» (личность – «оскорбление»); «На ней было легкое барежевое платье» (барежевое – «из барежа, редкой прозрачной ткани сетчатого рисунка»); «Я ждал от тебя совсем другой дирекции» (дирекция – «действие»); «У него уже появилась нянюшка в глазетовом кокошнике» (глазетовый – «из парчи», кокошник – «головной убор в виде расшитого полукруглого щитка»); «Он все делает добро, сколько может; он все еще шумит понемножку: недаром же был он некогда львом; но жить ему тяжело…» (лев – «человек, пользующийся в светском обществе большим успехом»); (в) постеле; стора (вместо штора); чучелы и т. д. Но не об этом пойдет речь далее. Остановимся на двух подаваемых нам Тургеневым в кавычках написаниях. Вот они: «На конце этих четвертушек красовались старательно окруженные «выкрутасами» слова: «Пиотр Кирсаноф, генерал-майор»; «На бумажных их (банок. – Н. Ш.) крышках сама Феничка написала крупными буквами «кружовник»; Николай Петрович любил особенно это варенье». В процитированном первом предложении кавычки есть и при авторском слове выкрутасы, но к разбираемым здесь фактам оно никакого отношения не имеет: оно написано автором и написано по-нашему, если так можно сказать, абсолютно правильно. Правда, и оно останавливает внимание, но не написанием его самого, а сопровождающими его кавычками. Действительно, надо знать, что они значат. Изучение языка художественных произведений И. С. Тургенева дает нам на это совершенно исчерпывающий ответ. Как и в других случаях (ср.: «Он никогда ничего не «сочинял» (= «врал». – Н. Ш.); «Посаженные на оброк мужики не вносили денег в срок, крали лес; почти каждую ночь сторожа ловили, а иногда с бою забирали крестьянских лошадей на лугах «фермы» (= «имения». – Н. Ш.); «Николай Петрович побаивался молодого «нигилиста» и сомневался в пользе его влияния на Аркадия», «Дворовые мальчишки бегали за «дохтуром» (= «доктором». – Н. Ш.), как собачонки»; «От него пахло какими-то необыкновенными, удивительно «благородными» духами» и т. д.). Тургенев широко использует, как и курсив, кавычки как графическое средство указания «сторонности» того или иного слова общелитературному языку и употреблению, просторечного, диалектного, профессионального, устаревшего или индивидуально-авторского характера слова. Здесь Тургенев кавычками отметил диалектное (южновеликорусское) происхождение слова выкрутасы в значении «завитушки, затейливые узоры». Что касается двух других случаев использования писателем кавычек в приведенных цитатах из тургеневских «Отцов и детей», то в них кавычки употребляются для передачи не авторского, свойственного какому-либо персонажу (тут – деду Аркадия и Феничке) написания общелитературного слова (слов Петр Кирсанов и крыжовник), которое не совпадает с принятым в современной орфографии. С точки зрения последней оба написания представляются нам одинаково неправильными. Но мы очень ошибемся, если оба написания отнесем к неправильным. Написание Феничкой слова крыжовник в виде «кружовник» является, действительно, неверным, не соответствующим нормам русского правописания (и современного, и времен Тургенева). Это объясняется тем, что оно передает (между прочим, совершенно правильно) диалектное произношение ею слова крыжовник. Таким написанием, точно отражающим диалектную огласовку слова крыжовник, Тургенев хотел только подчеркнуть необразованность не шибко грамотной Федосьи Николаевны, дочки владелицы постоялого двора. Написанное дедом Аркадия Петром Кирсановым по своей информативности сложнее. С одной стороны, оно выполняет те же функции, что и написание кружовник, коль скоро речь идет об изображении на письме фамилии (Кирсаноф). Ведь дед Аркадия был, как характеризует его писатель, «полуграмотным, грубым, но не злым русским человеком». С другой стороны, оно (через форму Пиотр) указывает нам на то время, когда Петр Кирсанов учился писать. Ведь это написание передает одну из графических особенностей русского письма второй половины XVIII в., когда произношение на месте звука о (после мягких согласных перед твердыми под ударением) изображалось не буквой F, а сочетанием букв ио (io). Как видим, при чтении художественного произведения приходится обращать внимание не только на слова, грамматические формы и фонетику, но и на факты, казалось бы, сторонние толкованию текста – кавычки. Какую Рахметов тянул лямку В современном русском литературном языке слова тянуть и лямку не являются автономными и образуют единое фразеологическое целое. Выражение тянуть лямку сейчас значит «заниматься тяжелой, малоинтересной для человека и не соответствующей его способностям работой». Но этим ли занимался Рахметов в романе Н. Г. Чернышевского «Что делать?», когда «на половине семнадцатого года он вздумал, что нужно приобрести физическое богатство, и начал работать над собою». Кстати, не здесь ли у Чернышевского впервые был употреблен так современно и привычно звучащий в нашем языке оборот работать над собой? Контекст, в котором мы его находим, приводит нас к выводу, что речь идет о вполне конкретном труде. Чтобы быть физически сильным, Рахметов «стал очень усердно заниматься гимнастикой; на несколько часов в день становился чернорабочим… раз даже прошел бурлаком всю Волгу». И далее: «Он сел просто пассажиром, подружившись с артелью, стал помогать тянуть лямку и через неделю запрягся в нее, как следует настоящему рабочему». Таким образом, у Чернышевского здесь не фразеологизм, а два совершенно самостоятельных слова со своими вполне конкретными значениями. Бурлаки, ведя с берега вверх по течению баржу или судно, тянули их с помощью лямки – толстой веревки или бечевы (ср. у Некрасова: «Выдь на Волгу: чей стон раздается Над великою русской рекой? Этот стон у нас песней зовется – То бурлаки идут бечевой»). Приведенный текст из «Что делать?» дает нам возможность заглянуть в историю фразеологизма тянуть лямку как одного из многочисленных оборотов, пришедших в русский язык из профессиональной речи (ср. музыкальное играть первую скрипку, столярное топорная работа, железнодорожное ставить в тупик и т. д.). Во что и зачем стучал сторож
Так начинается вторая часть рассказа А. П. Чехова «Невеста», одного из самых чудесных его рассказов, проникнутого призывом к деятельной жизни и настоящей человеческой радости, твердой верой в светлое будущее, ожидающее людей («О, если бы поскорее наступила эта новая, ясная жизнь, когда можно будет прямо и смело смотреть в глаза своей судьбе, сознавать себя правым, быть веселым, свободным! А такая жизнь рано или поздно настанет!»). Обратим внимание на второе предложение приведенного отрывка, как будто ничего неясного и темного не содержащего. Какую информацию доводит до нашего сведения писатель? Все слова по отдельности в нем понятны и входят в число самых частых и употребительных. И все же – при внимательном чтении – оно вызывает вопросы: зачем и чем стучал… сторож, призванный, как известно, что-либо стеречь, охранять, караулить. Такое же недоумение могут посеять и следующие далее в рассказе «Невеста» упоминания о стороже: «Сторож уже давно не стучит. Под окном и в саду зашумели птицы, туман ушел из сада, все кругом озарилось весенним светом, точно улыбкой»; «И Саша не спал внизу, – слышно было, как он кашлял… «Тик-ток… – стучал сторож где-то далеко. – Тик-ток… тик-ток». Приведенные фразы – яркие примеры того, что для понимания сказанного далеко не всегда можно ограничиться знанием только слов как таковых, нужны также и те знания о действительности, которые стоят за словами как носителями и источниками национальной и культурно-исторической информации, которые накопились в языке как лексическое и фразеологическое отражение истории, культуры и быта русского народа. Но обратимся к тексту. Он совершенно определенно говорит, что речь идет о ночном времени и, значит, о ночном стороже (когда он стучал, было два часа, когда взошло солнце, он уже не стучит). Ночные сторожа были раньше разные: либо караульщики, либо обходные, что подтверждает словарь В. И.Даля. Караульщики были сторожами «безотходными», т. е. находившимися постоянно там, где они что-либо сторожили. Обходные сторожа, как свидетельствует определение, были такими, которые обходили тот «объект» (село, определенную часть города), который они охраняли. Эти-то обходные ночные сторожа и стучали. Стучали обычно особым деревянным молотком в металлическую (железную или чугунную) доску. Примеры такого употребления встречаем у различных писателей: «Все спали в Нижнем Новгороде; …только изредка на боярских дворах ночные сторожа, стуча сонной рукой в чугунные доски, прерывали молчание ночи» (Загоскин М.Н. Юрий Милославский); «Сторожа стояли на всех углах, колотя деревянными лопатками в пустой бочонок наместо чугунной доски» (Гоголь Н. В. Мертвые души); «В то время сторож полуночный, Один вокруг стены крутой, свершая тихо путь урочный (= «предназначенный, отведенный». – Н. Ш.), Бродил с чугунною доской, И возле кельи девы юной Он шаг свой мерный укротил И руку над доской чугунной, Смутясь душой, остановил» (Лермонтов М.Ю. Демон). Зачем же сторожа стучали? Ответ на этот вопрос мы находим в «Воспоминаниях» И. В. Бабушкина: «Сторожа стучали изредка в колотушку, давая знать о месте своего присутствия…» «Подведомственное» обходному ночному сторожу место, которое он охранял и, значит, околачивал, имело ранее название околоток. Первоначальным значением слова околоток было «участок, охраняемый (околачиваемый) каким-либо сторожем», затем в царской России оно получило значение «район города, подлежащий ведению околоточного надзирателя». Сейчас слово околоток и его производное (околоточный) стали уже историзмами, поскольку понятия, ими обозначаемые, ушли в историю. XXXV строфа первой главы «Евгения Онегина» Как уже говорилось, читая даже хорошо знакомые нам по школьной программе художественные произведения, мы должны учитывать, что в них всегда есть «подводные рифы», как языковые, так и специфические, что выражается в слове как названии тех или иных предметов и явлений объективной действительности, жизни и быта народа, нам почему-либо незнакомого. В качестве примера можно привести XXXV строфу первой главы романа А. С.Пушкина «Евгений Онегин», где к явным языковым шумам и помехам (в виде устаревших слов биржа, охтинка, васисдас, хлебник) прибавляется информативная скрытность самого текста с точки зрения его «плана содержания»: Что ж мой Онегин? Полусонный Если даже мы знаем, что слово биржа здесь употребляется А. С.Пушкиным в архаическом значении «уличная стоянка извозчиков», что хлебник – это «пекарь и продавец хлеба», что охтинка – «жительница Охты, т. е. Охтинской слободы Петербурга», а слово васисдас представляет собой искаженное французское слово vasistas – «маленькое окошко», этимологически связанное с немецким Was ist das? «Что это такое?» и значит «форточка», мы все же не в состоянии с исчерпывающей полнотой представить сообщаемое поэтом. Последнее можно осуществить только с учетом того фона у ряда образующих разбираемый текст слов, который отражает определенные культурно-исторические факты. Надо видеть, что кроется под сочетание «А Петербург неугомонный Уж барабаном пробужден». Здесь Пушкин говорит о барабанной дроби утренней побудки в казар ах расположенных в различных концах города гвардейских полков. Звук барабана будил ото сна трудовое население столицы. О то, что именно трудовой народ, а не представителей господствующего класса, говорят и предыдущие строчки «Что ж ой Онегин? Полусонный В постелю с бала едет он» , и слово неугомонный (Петербург) – «шумный» (от таких, как Онегин). Следует также иметь в виду, что охтинка, спешащая с кувшином, – не просто обитательница Охты, а молочница (Охта была заселена финнами, снабжавшими жителей столицы молочными продуктами). Необходимо учитывать также, что «хлебник, немец аккуратный» как пекарь и продавец хлеба открывал форточку в своей лавке не для того, чтобы ее проветривать, а чтобы подавать покупателю хлеб. Внимательное чтение этой строфы дает возможность сделать еще один важный вывод: описываемое зимнее утро было безветренным и морозным: снег хрустит, а трубный дым «столбом восходит голубым». В заключение хочу обратить ваше внимание на устаревшую форму слова постель – в постелю (вместо в постель). Это не ошибка поэта. В первой половине XIX в. в русском языке было существительное постеля, которое склонялось, естественно, как слова земля, неделя, воля и т. д. О значении двух слов на эпи- В современном русском языке имеется не очень большая, но очень употребительная группа иностранных слов, начинающихся на эпи-. В большинстве существительных звукосочетание эпи– у нас уже не отделяется от корня, хотя по своему происхождению это не что иное, как приставка греческого происхождения (в древнегреческом языке эпи– равно нашим приставкам на-, над-, сверх-, после-). Разбор слова по составу позволяет четко выделять приставку эпи– лишь в словах эпигенез (ср. генезис, генетический), эпилог (ср. пролог), эпифауна (ср. фауна), эпицентр (ср. центр), эпицикл (ср. цикл). В других словах она стала уже «частицей бытия» корня, например: в эпигон, эпистолярный (стиль), эпитафия, эпитет. И среди них эпиграмма и эпиграф, хорошо вам известные как литературоведческие термины. Первое слово значит «коротенькое сатирическое произведение», второе – «небольшой текст, которым автор предваряет свое произведение или его какую-либо часть для раскрытия их основного содержания». Со словами эпиграмма и эпиграф мы встречаемся в самом начале романа А. С.Пушкина «Евгений Онегин». Они соседствуют друг с другом, находясь соответственно в пятой и шестой строфах первой главы. Однако было бы ошибкой считать их терминами в современном значении. Но обратимся к пушкинскому тексту. Существительное эпиграмма заканчивает пятую строфу: Мы все учились понемногу Неожиданные эпиграммы Онегина, заставлявшие светских дам улыбаться, ничего общего с поэтическими произведениями не имеют. Ведь Онегин, по словам Пушкина, не был любителем поэзии и стихов не писал (вспомните: «…высокой страсти не имея для звуков жизни не щадить, не мог он ямба от хорея, как мы ни бились, отличить»). Что же значит в этом отрывке слово эпиграмма? Здесь перед нами один из многочисленных галлицизмов Пушкина (т. е. слов, заимствованных из французского языка), и обозначает он остроту (ср. франц. epigramme – «колкость, острота»). Вспомните, кстати, синонимическое словосочетание (сыпать) острые слова в XXXVII строфе первой же главы, которое, несомненно, выступает как свободная передача французского оборота dir des points – «отпускать остроты». В «Евгении Онегине» А. С. Пушкина приходится отметить такую же неожиданность смысла слова эпиграф: Латынь из моды вышла ныне: Заметим, что от современного литературоведческого термина слово эпиграф отличается в «Евгении Онегине» также старым ударением на корне, которое наблюдается в родственном ему и только что разобранном существительном эпиграмма. Пушкин говорит здесь не об эпиграфах как о литературоведческом термине, а об античных надписях на могилах, памятниках или зданиях. Чтение их было одной из составных частей первоначального курса древних языков. Если перевести слово эпиграф с древнегреческого буквально, то оно значит «надпись». Такое значение, доставшееся ему по наследству от древнегреческого (ср.: epi – «над, сверху», graphe – «надпись, запись»), оно имеет и во французском языке. В древнегреческом языке, кстати, слова, которые мы разбираем, во многих своих значениях (в силу однородности своего морфемного состава, т. е. состава слова) выступают как синонимы. Между прочим, во второй и седьмой главах романа «Евгений Онегин» вместо слова эпиграф в его старом значении выступает существительное надпись: Там виден камень гробовой Как видим, в процессе своего употребления бывшие в языке-источнике (т. е. древнегреческом языке) родственные слова эпиграмма и эпиграф в русском языке разошлись по значению, но затем тематически сблизились, став литературоведческими терминами. А. С. Пушкину они известны и в этом смысловом амплуа. В приведенных отрывках из первой главы «Евгения Онегина» просят толкование не только разобранные два слова с эпи-. Иную, нежели сейчас, семантику имеют в тексте Пушкина еще три слова. Это педант, грех и анекдот. Слово педант употребляется поэтом в значении «человек, который выставляет напоказ свою ученость, самоуверенно, с апломбом судит о чем угодно», слово грех – в значении «ошибка» (ср. погрешность), слово анекдот – в значении «небольшой занимательный рассказ» (ср. в «Пиковой даме»: «Анекдот о трех картах сильно подействовал на его воображение»). Пучок зари В XXXV строфе второй главы своего стихотворного романа, описывая старших Лариных, Пушкин пишет: В день Троицын, когда народ, Пучок зари… Не правда ли, с точки зрения современного языкового сознания довольно странное словосочетание? Ведь сейчас мы в своем языковом обиходе привыкли к сочетанию слов пучок моркови (укропа, лука, кинзы, редиски, петрушки). В этих очень частотных словосочетаниях опорное слово пучок выступает, собственно говоря, в значении «связка». Кстати, это значение нашего слова в Словаре С. И. Ожегова не отмечается. В нем фиксируется лишь его вторичное, специальное значение («пучок лучей» и пучок «вид прически»). Примечательно к тому же, что научный термин пучок (лучей, линий, прожилок и т. д.) всегда требует за собой в качестве дополнения существительного во множественном числе (парикмахерский профессионализм употребляется автономно). В пушкинском же тексте слово пучок употреблено аналогично современному в значении «связка» (лука, укропа, редиски и пр. – с родительным части при вещественном существительном единственного числа). Только очень уж далеким кажется нам знакомое слово заря от обозначения растения как совокупности. Вспомните хотя бы чудесное описание Пушкиным белых ночей в Петербурге и привычные и понятные строки: Одна заря сменить другую И все-таки слово заря оказывается здесь того же порядка, что и существительные лук, укроп, крапива и т. д., т. е. название растения. В ботанике его называют двояко: то любисток, то зоря или заря. Это полевая трава рода lubisticum (отсюда и первое ее название), относящегося к семейству зонтичных. Она не только широко употреблялась в медицине как хорошее лекарственное средство (Соболевский Г. Санкт-Петербургская флора. СПб., 1801. Т. 1. С. 217–219), но использовалась в один из самых почитаемых праздников (в Троицын день) в обряде замаливания грехов. Так что в приведенных пушкинских строках говорится о конце мая – начале июня, когда во время праздничного молебна родители сестер Лариных «плакали на цветы», замаливая свои грехи (см.: Толстой Н. И. Плакать на цветы//Русская речь. 1976. № 4; Лотман Ю. М. Роман А. С.Пушкина «Евгений Онегин»: Комментарий. Л., 1983. С. 204–205). Что касается зари или зори (написание а вторично и является отражением на письме аканья), то, по мнению М. Фасмера, этот северновеликорусский фитоним представляет собой «темное» слово (Этимологический словарь русского языка. М., 1967. Т. 2. С. 81). Думается, что этимологически астрономическое заря, зорька и травное имя связаны между собой прямо и непосредственно как исходное и его производное посредством лексико-семантического способа словообразования. В таком случае растение было названо так по времени цветения в белые ночи и своему бледно-беловатому цвету. Скобки в XLVII строфе главы четвертой В пунктуационном плане эти скобки самые что ни на есть заурядные. В полном соответствии с правилами они выделяют из последовательного повествования вставное предложение с характерной для Пушкина присоединительной конструкцией: (Люблю я дружеские враки И не о них пойдет речь. Вглядимся попристальнее в то, что поэт нам мимоходом сообщает в этих скобках, и тогда станет ясно, что настоящее содержание этой пушкинской вставки может оказаться за скобками нашего сознания, если мы не вырвемся из плена современного русского языка и не будем внимательно читать текст. В самом деле, разве не является странным в первой строчке процитированного отрывка слово враки? Ведь существительное враки сейчас значит «вздор, ложь» и, кстати, что не отмечено С. И. Ожеговым, употребляется преимущественно в синтаксически обусловленном значении (ср. слова загляденье, осел, лапочка – по отношению к человеку и т. д.). Неужели Пушкин любил ложь или чушь друзей? Конечно, нет. В разбираемом контексте слово враки значит «разговоры». Оно было образовано от глагола врать «говорить» (ср. в «Капитанской дочке»: «Полно врать пустяки») с помощью суффикса – к(а) так же, как драка – от драться. (Позднее наше слово потеряло форму единственного числа и стало pluralia tantum.) Таким образом, строчка Люблю я дружеские враки значит «Люблю я дружеские разговоры, люблю поговорить с друзьями». А далее поэт сообщает время, когда он любил поговорить за бокалом вина с друзьями. Это «пора меж волка и собаки». Что же это за время суток? Косвенно проливает на это свет предшествующая скобкам строка «Вечерняя находит мгла…». Но о точном значении выражения пора меж волка и собаки мы узнаем только тогда, когда обращаемся к французскому языку и его перифрастической (такой нередкой у Пушкина: «Мне галлицизмы будут милы, Как ранней юности грехи, Как Богдановича стихи») фразеологии. Меж волка и собаки является неточной калькой – с перестановкой компонентов – французского выражения entre chien et loup, обозначающего сумерки. Точную кальку меж собаки и волка Пушкин переоформил в версификационных целях, для соблюдения размера. Следует сказать также два слова об архаических формах слов собака и волк. После предлога меж они стоят в родительном падеже, а не в творительном. Сейчас эту временную по семантике перифразу, если бы она сохранилась в современном русском языке, мы произносили бы и писали как между собакой и волком. Заметим, что «хронологические» перифразы французского происхождения встречаются у Пушкина в «Евгении Онегине» нередко: «Улыбкой ясною природа Сквозь сон встречает утро года» (утро года – весна); «Весны моей златые дни» (дни весны – молодость) и др. В заключение ответим на недоуменный вопрос поэта «А почему, не вижу я…», касающийся происхождения этого фразеологического сращения в языке-источнике. По мнению А.Г. Назаряна, оборот entre chien et loup буквально значит «время суток, когда нельзя отличить собаку от волка» (Почему так говорят по-французски. М., 1968. С.162). Решите сами Чем торгует Лондон щепетильный!  Семантические архаизмы приводятся далее в «родном» словесном окружении (из романа «Евгений Онегин» А. С. Пушкина). Попробуйте самостоятельно прочитать приводимые отрывки, найти слова с устаревшей семантикой и установить то значение, которое они имеют в пушкинском контексте, а затем сверьте свои ответы с моим кратким комментарием. Но дней минувших анекдоты Как рано мог уж он тревожить В райке нетерпеливо плещут (гл. 1, XX); Все, чем для прихоти обильной Усеян плошками кругом, Когда ж и где, в какой пустыне, Евгений тотчас на свиданье И сени расширял густые Везде высокие покои, «Сосед наш неуч; сумасбродит; Так точно старый инвалид Для призраков закрыл я вежды; Иные даже утверждали, Что знала, то забыла. Да, Пошла, но только повернула И впрямь, блажен любовник скромный, Порой белянки черноокой Прямым Онегин Чильд Гарольдом Зима!.. Крестьянин, торжествуя, Ее тревожит сновиденье. Меж ветхих песен аль анаха Вдруг двери настежь. Ленский входит, «Зачем вечор так рано скрылись?» — Раздвинем горы, под водой Ее привозят и в Собранье… (гл. 7, LI); И постепенно в усыпленье Зачем у вас я на примете?.. Кто б ни был ты, о ой читатель, Ну, как ваши успехи? Думается, что вы разобрались и данное задание (если не полностью, то в своей основной части) выполнено. Ведь в таких случаях важно прежде всего знать, что среди «своих» слов есть «чужаки», и читать текст внимательно. Укажем теперь имеющиеся в приведенных отрывках семантические архаизмы (в той последовательности, в какой они в них появляются) и переведем затем их на современный язык. Устаревшие значения здесь имеют слова анекдот, записная, плескать, щепетильный, плошка, в пустыне, по почте, сени, покои, обои, фармазон, инвалид, призраки, затем что, череда, взоры, блажен, любовник, белянка, прямой, торжествуя, мечтанье, куплет, Творец, зачем, своды, Собранье, фараон, соблазнительная и прости. В соответствующих местах «Евгения Онегина» перечисленные слова имеют следующее значение: анекдот – «короткий рассказ о замечательном или забавном историческом случае», записная (кокетка) – «настоящая, истинная, опытная», плескать – «аплодировать» (ср. совре енное рукоплескать), щепетильный – «галантерейный», плошка – «плоский сосуд с фитилем для освещения», в пустыне – «в жизни», по почте – «на почтовых лошадях», сени – «тенистое пространство», покои – «комнаты», обои – «ткань для обивки комнат» (в данно случае – штоф) (раньше обои (поче у они так и названы) не наклеивались, а прибивались особыми обойными гвоздями), фармазон – «франкмасон», «вольнодумец, безбожник», инвалид – «заслуженный воин, негодный уже (по нездоровью или старости) к военной службе», призраки – «мечты», затем что – «потому что» (союз затем что был одним из самых излюбленных причинных союзов поэтической речи. В «Евгении Онегине» он встречается неоднократно, тогда как, например, союз так как Пушкин в художественных произведениях не употребляет совершенно. Исключение составляет использование им этого слова в гл. 2, стр. V), череда – «пора, время», взоры – «глаза», блажен – «счастлив», любовник – «возлюбленный, влюбленный», белянка – «красавица», прямой – «настоящий», торжествуя – «празднуя», мечтанье – «виденье», куплет – «небольшая песня», Творец – «Боже», зачем – «почему», своды – «туннели», Собранье – «дворянское собрание», фараон – «карточная игра», соблазнительная (честь) – «(честь) соблазнителя», прости – «прощай». А вдруг не то вдруг? «Читая Пушкина, мы должны, как об этом уже говорилось, постоянно помнить, что многие слова у него выступают в таком семантическом амплуа, которое им сейчас уже несвойственно. К перечисленным в предыдущей главке можно отнести также и слово вдруг, которое в ряде контекстов обозначает у поэта «сразу, одновременно, вместе». Однако это вовсе не значит, что у Пушкина не встречается и наше вдруг «внезапно, неожиданно». Оно тоже может у него быть. И определить, какое перед нами вдруг (а оно имеет и третье значение – «тотчас, немедленно»), можно, только внимательно и беспристрастно читая соответствующий отрывок. Таким образом, вопрос: «А вдруг не то вдруг?» – не является праздным и должен учитываться. К чему приводит забвение его, покажем сейчас на конкретном примере. В предисловии к роману А. С. Пушкина «Евгений Онегин» в «Народной библиотеке» (М.: Худож. лит., 1966. С. 8–9) у П. Антокольского неверное толкование слова вдруг выступает даже в роли одного из аргументов его концепции о трагической сложности в работе Пушкина над романом и окончательности текста последнего. Но дадим слово П. Антокольскому: «Перед нами трагедия самого Пушкина: горестно осознанная им необходимость кончить роман по-иному, чем он был задуман. Отсюда естественный вопрос: является ли находящийся уже более ста лет перед русскими читателями текст окончательно завершенным созданием Пушкина? Или он был компромиссом для автора? На этот счет не может быть никаких сомнений. Сколько бы страданий ни стоило Пушкину сожжение десятой главы и уничтожение восьмой, все равно решение проститься с героем и романом, которое с такой силой звучит в последних строфах и с такой силой закреплено в памяти и в сознании поколений русских читателей, – это решение Пушкина было твердым и безоглядно смелым! Недаром поэт приравнивает его к прощанию с жизнью, к ранней гибели: Блажен, кто праздник жизни рано Вдруг – в словаре Пушкина это значит быстро, без проволочек, безжалостно отдавая себе отчет в безвозвратности расставания. В этом – весь Пушкин». Лингвистический анализ и замедленное чтение пушкинского произведения выявляют, что П. Антокольский здесь выдает за существующее желаемое. Слово вдруг в приводимом отрывке не имеет семантики «быстро, без проволочек, безжалостно отдавая себе отчет в безвозвратности расставания». Как оно не обладает и никогда не обладало такой семантикой и в современном обиходном языке. Значение «скоро, не думавши», отмечаемое наряду с другими у слова вдруг уже в словаре Геснера 1767 г., совершенно исключает момент раздумья, без которого отдавать себе отчет в чем-либо просто немыслимо. Расширенное рассмотрение отрывка, помещение его в больший контекст совершенно определенно говорит нам (тут надо иметь в виду также и излюбленные Пушкиным стилистические приемы всяких неожиданных поворотов), что слово вдруг употребляется в заключительной строфе «Евгения Онегина» в самом обычном и родном для нас значении «внезапно, неожиданно». Об этом говорит не только его непосредственное словесное окружение (в котором «роман» жизни и внезапно ушедшие из нее обдуманно и прихотливо сравниваются со стихотворным романом и Евгением Онегиным), но – может быть, в еще большей мере – и XLVIII строфа, с ее причудливым и внезапным сюжетным «сгибом», следующим за признанием-отказом Татьяны: Она ушла. Стоит Евгений, Нет сомнений и в том, что Пушкин кончил роман так, как он хотел, а не так, как ему диктовала «горестно осознанная необходимость», кончил в том же ключе, в каком все время его писал: не быстро (более семи лет!), не спеша, легко и свободно, но с изумляющими своей неожиданностью поворотами. Вообще в «Евгении Онегине» слово вдруг чаще всего выступает в современном значении: Вдруг получил он в самом деле Вдруг увидя Вдруг меж дерев шалаш убогой… (гл. 5); Вдруг изменилось все кругом… (гл. 8) и т. д. Но встречается в романе и иное вдруг, равное словам немедленно, сразу. Вот примеры из пятой главы: Мое! – сказал Евгений грозно, Между прочим, это слово вдруг в какой-то степени причастно и близко выражению будь друг. Не верите? И тем не менее доля правды в только что сказанном есть: фразеологизм будь друг возник в результате аббревиации, т. е. сокращения, более полной и рифмованной формы: Будь друг, да не вдруг (т. е. Будь другом, да не сразу). Такая поговорка отмечается еще в «Толковом словаре…» В. Даля. Мечты и мечты Мечты бывают разными… Но не о них пойдет сейчас речь. Как филологи обратим внимание на слова. Ведь бывают разными и слова мечты, мечты. Причем иногда у одного и того же писателя и в одном и том же произведении. И это следует обязательно учитывать, если мы хотим видеть авторский текст в его истинном свете. Например, текст романа А. С.Пушкина «Евгений Онегин». Существительное мечта (естественно, в самых различных своих падежных формах) мелькает в «Евгении Онегине» довольно часто. Оно предстает перед нами уже в посвящении: Достойнее души прекрасной, С ним мы сталкиваемся во второй главе при описании Ленского: Он в песнях гордо сохранил Его трижды произносит в своей исповеди-отповеди Татьяне Онегин в главе четвертой: Мечтам и годам нет возврата; Неоднократно слово мечта встречается нам и в иных местах романа (см., например, X строфу главы третьей и строфу XLV главы шестой, III строфу главы седьмой, XXXVI, XLI и XLV строфы главы восьмой и др.). И все это привычное и обычное слово мечта, столь же наше, сколь и Пушкина. Но есть в романе «Евгений Онегин» и другие мечты. Слово мечта может являться и является на в двух контекстах с такими значениями, которые ему в настоящее время уже несвойственны. В одно случае слово мечта выступает у Пушкина как «эрзац» существительного сновидение, как обозначение того, что снится: Он оставляет раут тесный, В другом случае слово мечта у Пушкина (уже в форме множественного числа) оказывается еще более интересным, поскольку его собственное значение – «видение» неразрывно слито со значение стоящего рядом и определяющего его прилагательного черные: А что? Да так. Я усыпляю Причем слито настолько тесно, что отдельно восприниматься и не должно. Почему? Да потому, что оно является «осколком» семантики породившего эти слова фразеологизма видеть все в черном свете. Впрочем, увидеть это можно только при замедленном чтении, хотя и без какого-либо специального лингвистического анализа. На первый же взгляд слово мечты здесь может показаться простым и обычным, а слово черные – очень своеобразным, хорошим и свежим эпитетом. Внимательное и неспешное чтение предшествующей строфы показывает, однако, что в соответствующем месте Пушкин усыплял вовсе не мечты. Вспомним, что предшествует разбираемому контексту: Вы согласитесь, мой читатель, В строфе, как видим, немало скепсиса и пессимизма, поэт высказывает (с его точки зрения, очевидно, не без причины: ему постоянно приходилось встречать в личине друзей врагов) даже сомнение в существовании настоящих друзей: «Уж эти мне друзья, друзья! Об них недаром вспомнил я». Однако тут же оговаривается: «А что? Да так. Я усыпляю пустые черные мечты» (т. е. «Я не хочу напрасно видеть все в черном свете», буквально – «я заставляю уснуть, отгоняю от себя пустые черные виденья, напрасные мрачные мысли»). Как же возникло такое оригинальное словосочетание, как черные мечты? Оно появилось у А. С. Пушкина в результате творческого переоформления фразеологической кальки видеть все в черном свете (< франц. voir en noir), но с использованием, с одной стороны, вместо слова виденья (однокорневого с глаголом видеть) его архаического синонима мечты «виденья, призраки», а с другой стороны, диалектно-просторечного знания слова мечты «мысли». Печальная здесь значит «достойная сожаления», прямое – «настоящее». О взорах и взглядах ВВ современном русском литературном языке слово взор является лишь синонимом слова взгляд. Однако в XIX в. оно могло употребляться и иначе – как синоним существительного глаз. Читая, например, Пушкина, следует иметь в виду, что если в предложении Взоры наши встретились («Капитанская дочка») слово взор равнозначно слову взгляд, то в контекстах: …перед ней («Евгений Онегин», гл. 3); Но, девы томной («Евгений Онегин», гл. 5) и т. д. – оно выступает уже как обозначение органа зрения. В этом значении существительное взор этимологически, по своей внутренней форме – «то, с помощью чего взирают, т. е. глядят».  Иллюстрация художника И. В. Кузьмина к роману А. С. Пушкина «Евгений Онегин». 1933 г. Такой же образ был положен в основу и некоторых других названий глаза. Такими, в частности, являются слова гляделки (от глядеть: Он подошел… он жмет ей руку… Смотрят Его гляделки в ясные глаза… (Блок), вежды (старославянское заимствование, представляющее собой производное от в?д?ти «видеть»: Для призраков закрыл я вежды, Но отдаленные надежды Тревожат сердце иногда… (Пушкин), зрачок – уменьшительное от зрак (от зьркти «смотреть, видеть»). Про годину, годовщину и год, а заодно – про лето и весну Однажды один из читателей журнала «Русский язык в школе» попросил объяснить значение слова година в отрывке из стихотворения А. С.Пушкина «Брожу ли я вдоль улиц шумных…»: День каждый, каждую годину Что здесь значит слово година: «год» или же, как в украинском языке, «час»? Хотя внешне этот вопрос выглядит весьма заурядно и никакой лингвистической изюминки как будто не содержит, но по существу вопрос очень интересный. В современном русском литературном языке слово година употребляется лишь как обозначение времени, в течение которого происходят какие-либо значительные события с оттенком торжественности, приподнятости. Определение каждая, сопровождающее у А. С.Пушкина слово година, сразу же говорит о том, что употребляется это слово здесь не в современном значении, а в каком-то другом. До первой половины XIX в. из древнерусского письменного языка дожили следующие значения существительного година: 1) время, 2) час, 3) год. Правда, два последних значения встречаются в русском литературном языке пушкинской эпохи очень редко. В каком же из этих трех значений А. С.Пушкин использует слово година в данном четверостишии? Градационный характер однородных членов его первой строчки (День каждый, каждую годину), а также предшествующий (ср. брожу ли, вхожу ль, сижу ль, гляжу ль, ласкаю ль, говорящие о постоянстве, неотступности, ежечасности думы поэта) и следующий далее текст («меж их» поэт старается угадать время своей будущей смерти!) заставляет думать, что слово година имеет здесь, скорее всего, значение «час». Заметим (на это важное обстоятельство в «Словаре языка Пушкина» почему-то не обращается никакого внимания!), что существительное годовщина явно имеет в разбираемом отрывке не современное значение. Оно означает здесь «время». Об этом неопровержимо свидетельствует как сочетание меж их (оно исключает здесь значение «год»), так и определение грядущая (!). Ведь для нас годовщина всегда связана с тем, что уже прошло (ср. современное значение слова годовщина в пушкинских строках: Чем чаще празднует лицей Свою святую годовщину…). Таким образом, все четверостишие на современный языковой стандарт можно «перевести» так: «Каждый день, каждый час я привык проводить в думах, стараясь угадать среди них время, срок своей будущей смерти». Кстати, двумя строфами выше у А. С. Пушкина не в современном значении употребляется и слово час: Я говорю: промчатся годы, Существительное час здесь значит не «60 минут», а является синонимом слова время. Наличие у слов час и година одинаковых значений («время», «час») не случайно, так как оба слова этимологически связаны с глаголами, обозначающими ожидание: первое – с глаголом чаять «ждать, ожидать» (ср. народные чаяния, паче чаяния «сверх ожидания»), второе – с глаголами годить и ждать (< жьдати). Как видим, в пределах одного и того же стихотворения А. С.Пушкина слова година и час употребляются одно на месте другого: година в значении «час», час в значении «время». Не правда ли, любопытно, что архаическая семантика может врываться в наше современное понимание художественного произведения? Попутно укажем, что трактовка слова година в значении «час» как украинизма или полонизма (ср. укр. година, пол. godzina) исключается в разбираемом контексте как биографией А. С. Пушкина, так и его стилистическими принципами. А теперь о слове год. Наш великий поэт пользуется им в данном стихотворении, так же как и мы, для обозначения 365 (а в високосном году – 366) дней. Вспомните соответствующую строчку: Я говорю: промчатся годы. Чехи и югославы могут понять ее неправильно, как «Я говорю: пройдут праздники», так как в их языках слово год значит «праздник, хорошее время». Именно последнее значение («хорошее время») и было в праславянском языке исходным для слова год, о чем свидетельствуют как его производные типа годный, гожий, так и его родственники в других индоевропейских языках, ср. нем. gut «хороший», алб. ngeh «свободное время» (а значит, и «хорошее время», «праздник», вспомните, что существительное праздник образовано от праздный < праздьныи «свободный, пустой») и т. д. Следовательно, слово год в русском языке пережило следующие узловые смысловые «реформы»: «хорошее время» – «время» – «время в 365 (или 366) дней». В последнем значении оно почти вытеснило из употребления старое название года – существительное лето. Сейчас это слово, как известно, называет лишь одну из четырех частей года. В исходном значении оно существует только как форма множественного числа к слову год (ср. семь лет и т. д.). Первоначальный смысл ясно чувствуется и в некоторых производных (ср. летопись «запись событий по годам», летошний «прошлогодний», летось «в прошлом году», летосчисление). Как видим, за свою долгую жизнь слово лето из года «превратилось» в его четвертую часть. Почти такую же судьбу пришлось в свое время испытать и общеславянскому слову яро, сохранившемуся у нас лишь в составе производных образований типа яровые и ярка «овца этой весны». Как свидетельствуют данные родственных индоевропейских языков на определенном хронологическом уровне оно тоже значило «год» (ср. авест. yar «год», нем. Jahr «год»). Только из названия года оно у славян превратилось в название весны. В каком месяце Пушкин изображает деревню в стихотворении «Деревня» Стихотворение А. С. Пушкина «Деревня» (1819) является одним из самых удачных примеров, на которых можно показать жизненную необходимость замедленного чтения художественных произведений, коль скоро мы действительно хотим понять, что и как сообщает писатель, о чем повествует, какими языковыми средствами пользуется. Здесь много различного рода архаизмов, немало поэтических перифраз, требующих особых комментариев и оговорок. Однако мы на этом всем останавливаться не будем, предоставим возможность это сделать читателю. Коснемся лишь одной (второй) части того «вольного» (антикрепостнического) стихотворения поэта, в котором он описывает деревенский пейзаж. Оно в общем почти свободно от устарелых языковых фактов. Во всяком случае, пониманию живописной картины деревни они вряд ли мешают (сей – этот, рыбарь – рыбак, полосаты – полосатые, крылаты – крылатые – два последних слова представляют собой усеченные (не краткие!) прилагательные, выступающие в роли определений). И вот уже на этом нетрудном для восприятия отрывке можно убедиться, что читать стихи надо внимательно. Стоит только поставить перед собой, например, такую задачу: определить как можно точнее, в какое время года Пушкин изображает деревню. Из двенадцати строк отрывка помогут это решить (а их надо найти!) прежде всего два сочетания существительных с прилагательными – душистыми скирдами и овины дымные. И особенно – последнее. Надо знать лишь значения этих слов. Строчка Сей луг, уставленный душистыми скирдами говорит, что время сенокоса уже прошло, сено скошено, высушено и собрано в скирды, т. е. в большие, плотно уложенные кучи. Так как сенокос бывает в июне – июле, то можно уже заключить, что описывается лето, а не весна («темный сад с его прохладой и цветами» может быть и весной!). Сообщение поэта о том, что он вдали видит также овины дымные еще более уточняет изображаемое им время. Ведь овины – это хозяйственные строения для искусственной сушки снопов, т. е. скошенного и собранного хлеба перед молотьбой. В них хлеб в снопах сушится с помощью огня, разводимого или прямо в яме, или в курной печи. Дымными, т. е. действующими, овины бывают после жатвы и перед молотьбой, т. е. не раньше августа. Вот это-то время в деревне и описал в «подвижных картинах» А. С. Пушкин в своей «Деревне». Попутно обратим внимание на первое словосочетание с иной точки зрения – зрительной. Ведь большие, плотно уложенные кучи сена можно назвать и стогами (рифма, кстати, сохранится). Как же видит поэт луг после сенокоса? Чтобы ответить правильно на этот вопрос, надо знать, чем отличаются скирды от стогов. Стога – по форме круглые, скирды же всегда продолговатые. Так знание значений слов не приблизительно и в целом (как это часто бывает), а очень точно и определенно позволяет представить себе поэтический уголок Пушкина, описываемый им в стихотворении «Деревня», августовскую деревню, полную «довольства и труда» и в то же время несчастную под ярмом крепостничества. Небось и наверное в поэме Н. А. Некрасова Заглавие этой заметки состоит из соединенных союзом и синонимических вводных слов небось и наверное. Последние употребляются сейчас в качестве лексических единиц, выражающих разную степень предположения, и передают большую или меньшую степень уверенности в достоверности того, о чем говорится в основной части предложения. Таким образом, в современном русском литературном языке они играют ту же роль, что и слова вероятно, очевидно, по-видимому и им подобные. Но было бы неверным считать обозначенное семантическое «амплуа» у небось и наверное извечным и единственным. Чтобы убедиться в этом, достаточно обратиться к художественной литературе XIX в. Далеко за примерами ходить не надо. Обратимся к главе I («Поп») первой части поэмы Н. А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо». Вспомните первые слова Луки, обращенные к попу: Уж день клонился к вечеру, Ведь слово небось у Луки совсем не то, к которому мы привыкли в своем речевом обиходе. Фраза вероятно (очевидно, по-видимому и т. д.) мы не грабители в описываемой поэтом ситуации бессмысленна и невозможна. Лука употребляет здесь слово небось в его, так сказать, первобытном, исконном значении – «Не бойся!». «Не бойся! Мы не грабители!» – вот что сказал Лука попу, когда крестьяне загородили ему дорогу. Значение «Не бойся!» у слова небось в разбираемом месте «Кому на Руси жить хорошо» позволяет воочию увидеть его происхождение. С этимологической точки зрения слово небось – через промежуточное звено небойсь! (ср. готовьсь!) – восходит, действительно, к словосочетанию Не бойся! Задержимся еще некоторое время на слове небось. Но для этого нужно прочитать следующую сразу же за разобранным предложением авторскую характеристику Луки. Она дается в скобках: – Небось! Мы не грабители! В последней из приведенных строк перед нами опять слово небось. И опять (вы это чувствуете?) по значению совсем не то, которое свойственно современному языку. И более того: оно ему прямо противоположно! Ведь если сейчас небось значит «вероятно, возможно, наверное», то в некрасовском контексте оно имеет значение «наверняка». Слово вероятной возможности здесь предстает перед нами как слово категорического утверждения. Если касаться «субординации» выявленных у слова небось значений (устаревших «Не бойся!» и «наверняка» и современного «наверное»), то придется сказать, что последнее является самым молодым и возникло из значения «наверняка» (!) так же, как значение «наверняка» – из значения «Не бойся!». Возникновение у слова энантиосемии, т. е. прямо противоположных значений, – явление хотя и любопытное, но довольно частое и закономерное (ср. честить «оказывать честь» и честить «ругать», просмотреть «проглядеть от начала до конца» и просмотреть «не увидеть», задуть домну «зажечь» и задуть свечу «погасить» и т. д.). И одним из ярких примеров этого является второй герой нашей заметки – вводное слово наверное как общеупотребительный межстилевой синоним просторечного небось. Оно пережило ту же судьбу и было синонимом последнего также и в значении «наверняка». Что это так, свидетельствует текст той же главы «Кому на Руси жить хорошо». Обратимся к монологу попа о поповском богатстве: Во время недалекое Здесь Так умирать наверное в деревню приезжал переводится на современный язык не иначе как «Так умирать наверняка приезжал в деревню». Заметим, что это утвердительное значение у ныне предположительного наверное является не менее обоснованным и закономерным, нежели у небось. Ведь слово наверное в конечном счете идет из фразеологического оборота картежного арго идти на верную взятку, затем идти на верную (т. е. идти наверняка). Сочетание слов на верную слилось в слово наверную, а последнее – подвергшись аналогическому воздействию выражения верное дело – превратилось в наверное. Решите сами Трудные строки «Кому на Руси жить хорошо»  В приводимых ниже строках поэмы содержатся слова и обороты, которые в настоящее время уже устарели, стали редко употребляемыми. Определить значение, с которым они используются в соответствующем контексте, можно, если читать текст не спеша, в нужных случаях снимая с книжной полки один из толковых словарей современного русского языка (лучше всего, конечно, вам поможет 17-томный академический словарь). 1. В каком году – рассчитывай, Укажем имеющиеся в приведенных текстовых «кусочках» устаревшие сейчас или диалектные слова и, если так можно выразиться, переведем их на современный язык. Такими словами у Некрасова являются слова: столбовая (дороженька), временно обязанные, козловые (башмачки), офени, хожалый, квартальный, кочи, зажорины, плетюх, пеуны, пеунятники, зоб, ручник, талиночка, мир, балясничать, хазовый (конец), пещур, присутствие, целковик, лобанчик, ассигнация, денник, венгерка с бранденбурами, китайские (беседки), отъезжие (поля), онучи, очеп, по сказкам. Перечисленные слова из «Кому на Руси жить хорошо» Н. А.Некрасова в соответствующих местах этого художественного текста имеют следующее значение: столбовая дорога – «большая проезжая дорога с верстовыми столбами (верста – чуть больше километра)», временно обязанные – «освобожденные крепостные, обязанные в то же время либо платить за землю оброк, либо отбывать определенные повинности», козловые (башмачки) – «сделанные из кожи козла», офеня – «коробейник, мелкий торговец, торговавший вразнос, бродя из деревни в деревню», хожалый – «рассыльный при полиции или полицейский низкого чина», квартальный – «полицейский надзиратель над кварталом», кочи – «кочки», зажорина – «рытвина с водой, талая вода под снегом, покрываю-щим рытвину», плетюх – «большая сплетенная из прутьев корзина», пеуны – «петухи», пеунятники – «петушатники», зоб – «штука» (счетное слово типа существительного голова, ср.: сто голов молодняка), ручник – «полотенце», талиночка – «проталинка», мир – «сельская община», балясничать – «болтать», хазовый конец – «лицевая сторона ткани», пещур – «корзинка из лыка», присутствие – «учреждение», целковик – «рубль (серебряный)», лобанчик – «золотая монета» (разного достоинства), ассигнации – «бумажные денежные знаки» (разного достоинства), денник – «хлев», венгерка с бранденбурами – «куртка с нашитыми поперечными шнурами» (по образцу формы венгерских гусар), китайские беседки – «беседки в китайском стиле», отъезжие поля – «отдаленные, куда надо ехать», онучи – «портянки», очеп – «шест у колодца, который служит как рычаг для подъема воды, журавль», по сказкам – «по ревизским сказкам, данным переписи лиц, которые подлежат обложению податью».  Иллюстрация художника Д. А. Шмаринова к поэме Н. А.Некрасова «Кому на Руси жить хорошо». 1953 г. Как видим, большинство слов, вызывающих у нас хлопоты и раздумья, являются историзмами, связанными с крестьянским бытом России XIX в. Значительно меньше в приведенных отрывках (да и во всей поэме) архаических синонимов, вытесненных позже другими словами. Два слова из «Железной дороги» Вы, конечно, помните строчки в начале замечательного стихотворения Н. А. Некрасова «Железная дорога»: Славная осень! Морозные ночи, Прозрачны и просты слова, без каких-либо красивых сравнений и метафор, но зато какие удивительно трогательные и бодрые. Однако все ли до капельки понятно нам в этих шести строках? Всмотритесь в них, и ваше внимание привлечет прежде всего слово кочи. И понятно: сейчас его в литературном языке нет. Вместо него в нем употребляется производное кочки. Впрочем, и во времена Некрасова существительного кочи в литературной речи не было. В стихах поэта это один из многочисленных диалектизмов родного говора. В отличие от практики И. С.Тургенева диалектизмы употребляются у Некрасова по-толстовски, без толкований и оговорок, и поэтому иногда серьезно влияют на понимание текста (см. заметку «Трудные строки «Кому на Руси жить хорошо»»). Но это не все. В приведенных строчках есть еще одно слово, языковая «особинка» которого невооруженным глазом не видна, особенно если стихотворение читается залпом. Таким словом является существительное безобразъе как антоним слову красота. В настоящее время значение «некрасивость, уродство» не принадлежит уже – в отличие от значения производного от него прилагательного безобразный – к актуальным, оно ушло на периферию нашего языкового сознания. Частотно и подлинно современно оно сейчас лишь в значениях «возмутительное явление, отвратительный поступок» или, если слово безобразие выступает в роли сказуемого, «возмутительно, отвратительно». Хрипуны Грибоедова и Чехова Слово хрипун в современном повседневном употреблении не вызывает у нас ни любопытства, ни вопросов. Это существительное представляет собой рядовое образование на – ун, значение которого целиком и полностью складывается из его корня и следующего за ним суффикса. В этом отношении оно однотипно словам болтун, ворчун, крикун, свистун, сопун, хвастун, шаркун и т. п. Хрипун – человек с хриплым, сдавленным, сиплым голосом, человек, который, говоря, хрипит. Но, как говорится, хрипун хрипуну рознь. Обращаясь к художественным текстам прошлого, мы рискуем встретиться и с таким словом хрипун, которое может поставить нас в тупик. Оно не является совершенно чужим нашему существительному хрипун. В определенной мере оно выступает как родственное ему. И тем не менее ввести нас в грех (в старом значении этого слова – «в ошибку», ср. погрешность) вполне способно. Дело в том, что семантика старого слова хрипун как лексической единицы XIX в. в определенной социальной сфере была значительно уже и конкретней, хотя и строилась на сумме значений составляющих его морфем. Там оно тоже обозначало хрипуна, но не хрипуна вообще, а совершенно определенного. При чтении художественных произведений об этом надо помнить, иначе отрывки с этим словом будут восприняты неверно. Обратимся к соответствующим контекстам. У Грибоедова в комедии «Горе от ума» слово хрипун попадается нам в меткой и язвительной характеристике Чацким Скалозуба: Хрипун, удавленник, фагот, Созвездие маневров и мазурки. Первая строчка этой оценки Скалозуба как личности состоит из трех однородных членов синонимического ряда, характеризующих его, на первый взгляд, лишь по свойственной ему манере говорить (хрипун, удавленник, фагот – человек с хриплым, сдавленным, сипло-басовитым, как у фагота, голосом). Но в действительности здесь перед нами и морально-этическая характеристика Скалозуба как офицера-фанфарона, духовно убогого хвастуна и щеголя. Чтобы это почувствовать, надо знать, что в данном случае Грибоедов употребил слово хрипун не в общенародном – известном и сейчас – значении, а в устаревшем арготическом значении, бытовавшем в XIX в. в среде военных. Это особое значение слова хрипун «офицер-фанфарон», несомненно, появилось под влиянием корневого хрип, в речи военных получившего семантику «хвастовство, соединенное с высокомерием и выражаемое насильственной хриплостью голоса». Свидетельство об этом поэта П. Вяземского приводится Г. О. Винокуром уже в статье «Горе от ума» как памятник русской художественной речи» (уч. зап. МГУ. Труды кафедры русского языка. 1948. Вып. 128. Кн. 1). Таким образом, в устах Чацкого хрипун, удавленник, фагот по отношению к Скалозубу значило «офицер-фанфарон, высокомерный хвастун и щеголь с манерой говорить нарочито сиплым, хриплым, басовитым голосом». Ту же семантику оно имеет и у Чехова в рассказе «Ионыч». Вспомните «жалостные» слова Старцева Екатерине Ивановне во время их встречи после четырехлетней разлуки, когда «ему вдруг стало грустно и жаль прошлого» «и уже хотелось говорить, жаловаться на жизнь…»:
Здесь тоже слово хрипун, что и у Грибоедова, и называет им Старцев тех же скалозубов, только конца XIX в. Каков он – глагол кушать? ВВ работах по культуре речи стало привычкой относиться к этому слову в целом отрицательно, как к просторечному, будто бы придающему речи манерность и слащавость. Однако даже в них глагол кушать «разрешается» свободно и без каких-либо ограничений употреблять при приглашении к столу и при обращении к детям (см., например: Краткий словарь трудностей русского языка. М., 1968. С.127). Поэтому форма кушайте является не только современной и актуальной, но и при вежливом обращении более предпочтительной и, значит, более правильной, нежели глагол ешьте. Более того, кажется очень субъективным и произвольным наклеиваемый иногда ярлык неправильности даже по отношению к личным формам этого глагола (см. там же). Право же, никакой манерности и тем более слащавости формы кушаю, кушаешь, кушает и т. д. сами по себе не имеют. В их недоброжелательной оценке со стороны говорящих (а не только справочников по практической стилистике русского языка) в свое время сказалось отношение народа к господам (ведь господа не ели, а кушали!). Но с тех пор, как и во многих других словах, в глаголе кушать постоянно происходит процесс стилистической нейтрализации, стирающий в нем этот особый «неприязненный» обертон. Современная речевая практика, в том числе и практика печати, свидетельствует, что слово кушать постепенно становится самым обыкновенным и привычным синонимом слова есть. И частые отступления от так называемых нормативных рекомендаций – яркое тому свидетельство. В предложении Ни павильона для одежды, ни киоска, где можно выпить воды, скушать бутерброд по существу так же нет ничего неправильного, как и в следующих строках из поэмы «Руслан и Людмила» А. С.Пушкина: «Вдали от милого, в неволе, Какая погода? Нет, это не метеорологический вопрос, ответ на который мы ежедневно слышим в сводке бюро погоды. Наш вопрос относится не к самой погоде, а к слову, которым она называется, и имеет, таким образом, чисто лингвистический характер. Кроме того, он будет относиться также и к самому вопросу Какая погода? Как вы думаете, всегда ли возможен вопрос Какая погода? Вы уже в вопросе чувствуете отрицательный ответ? В таком случае вы правы. Возможность вопроса Какая погода? зависит от значения существительного. Это вопросительное предложение имеет право на существование лишь постольку, поскольку слово погода обозначает просто состояние земной атмосферы и связанных с ней природных явлений и является нейтральным, безоценочным названием погоды. Тем самым вопрос Какая погода? предполагает словосочетания хорошая погода и плохая погода. Но это наблюдается не всегда даже в поэтическом языке. И объясняется такой факт тем, что и в стихи «забредают» иногда семантические диалектизмы и архаизмы, слова, имеющие диалектное или устарелое – иное, нежели в литературном языке, – значение. Сравните приводимые ниже строчки из Пушкина и Прокофьева: Брожу над морем, жду погоды, Здесь (и в одном и в другом контексте) перед нами предстает иная с точки зрения современного русского языка диалектная «погода». Причем по существу – с прямо противоположными значениями. У Пушкина слово погода значит «хорошая погода, вёдро» (в переносном смысле – «удобное время»), у Прокофьева оно, напротив, употребляется в значении «плохая погода, ненастье, дождь, снег». Как следует оценивать данное словоупотребление? Как не соответствующее литературным нормам и ошибочное? Ведь и у Пушкина, и у Прокофьева слово погода употребляется без какого-либо стилистического задания, хотя является диалектизмом. На первый взгляд как будто так, и порицания заслуживают оба поэта. Но подождите осуждать за неудачное употребление слова погода Пушкина. Нет, не потому, что он Пушкин. Совсем по другой причине. У Прокофьева существительное погода «ненастье, дождь, снег» – явная ошибка и в известной степени лишь отзвук его родного диалекта. У Пушкина же слово погода «удобное время; хорошая погода, вёдро» – не диалектизм (в таком значении диалектным оно стало позднее), а архаизм времени, ставший таким для нас, а для него бывший еще актуальным словом литературного языка. Поэтому-то пушкинское употребление этого слова в смысле «удобное время; хорошая погода, вёдро» является таким же правильным, как и встречающееся в том же «Евгении Онегине» слово погода в современном значении: В тот год осенняя погода Кстати, архаическое сейчас погода «хорошая погода, вёдро» является первичным в общенародном языке. Этим, в частности, объясняется существование в нем таких слов, как непогода, погожий (денек), распогодилось «разведрилось» и др. Аналогичное семантическое развитие (от хорошего к нейтральному) наблюдается у слова путь, ср.: путный и беспутный, путём «хорошо» (ничего не сделает) и непутёвый и т. д. Замечу, что сочетание Пушкина жду погоды (ср. фразеологизм ждать у моря погоды) этимологически тавтологично, так как ждать (от жьдати < гьдати) и погода (от погодити, в свою очередь образованного от годити «ждать», ср.: год, первоначально значившее «благоприятное, удобное время») являются словами одного и того же корня. Семантика слова вечор Н е правда ли, более чем странным и даже диким будет предложение Приходи вчера. Оно может звучать даже как оскорбление. Еще бы: приглашать прийти в то время, которое уже прошло. Вы скажете, что так не говорят, что это нелепо и нелогично. И будете в общем правы. И все-таки, представьте себе, что-то подобное под музыку Дунаевского в течение довольно долгого времени пели. Я имею в виду песню из кинофильма «Волга-Волга» на слова Волженина. Вот эти строчки: Приходи вечор, любимый, Вы не обращали на них внимания? А напрасно. Ведь первая строчка приведенного четверостишия буквально значит «приходи, любимый, вчера вечером». Поэт здесь неверно с точки зрения существующих в литературном языке норм приписал слову вечор такое значение, которого у него в русском литературном языке никогда не было и которое ему не свойственно и сейчас. Наречие вечор он наградил значением «вечером». Неправильность употребления слова вечор Волжениным становится ясной, как только мы вспоминаем Пушкина: Вечор, ты помнишь, вьюга злилась, («Зимнее утро»); О пташка ранняя моя! («Евгений Онегин», гл. 3); Во-первых, он уж был неправ, («Евгений Онегин», гл. 6); «Зачем вечор так рано скрылись?» — («Евгений Онегин», гл. 6). Во всех этих контекстах слово вечор значит «вчера вечером». Но это лишь одна сторона медали. Дело в том, что сложное двухкомпонентное значение, как показывает история русского языка, могло у наречия вечор распадаться и распадалось, становясь простым. Так возникло у слова вечор «одно-компонентное» значение «вчера». Его отмечает уже В. Даль: «Вечор… вчера вечером, по полудни; ино значит вообще вчера» (Толковый словарь живого великорусского языка). Оно было принято и в литературном языке. Однако сжатие двух-компонентного значения «вчера вечером» у слова вечор могло осуществляться и происходило также и другим путем. Слово вечор начинало выполнять роль второго компонента своей семантики и получало значение «вечером». Правда, это семантическое преобразование у нашего наречия протекало лишь в диалектах и ими ограничилось, но так все-таки было. Академическим «Словарем русских народных говоров» (Л., 1969. Вып. 4) значение «вечером» у слова вечор отмечается для целого ряда русских диалектов (нижегородских, симбирских, владимирских, московских, новгородских, курских, тульских и др.). И вот этот факт заставляет несколько иначе оценивать промах Волженина, если хотите, отнестись к его ошибке в словоупотреблении более снисходительно. В его фразе приходи вечор, любимый следует видеть в первую очередь родимые пятна диалектной речи (от этого, конечно, языковая погрешность не перестает быть погрешностью), а возможно – прямое и не совсем удачное заимствование из народной песни: Да взойди, взойди ты, солнце красное! (Словарь русских народных говоров) Таким образом, волженинское предложение Приходи вечор, любимый в значении «приходи, любимый, вчера вечером» нелепо лишь в русском литературном языке. С точки зрения носителей целого ряда русских диалектов оно является вполне нормальным и содержит «безобманное» приглашение любимому приходить вечером на свидание. Разобранный нами случай показывает, как важно осмотрительно и осторожно подходить к нормативным оценкам того или иного словоупотребления (особенно у поэтов и писателей), учитывая факты и литературной речи, и народных говоров. Имея в виду строчку Волженина, можно сказать, что значение «вечером» для слова вечор им не изобретено (оно есть в диалектах), но употреблено им наречие вечор все же неверно. В художественном произведении – и особенно в поэзии – всякий диалектизм должен быть мотивирован определенными художественно-изобразительными, эстетическими, целями. А как раз этого здесь у поэта и не наблюдается. В заключение вернемся к начальным словам заметки, к предложению Приходи вчера. Парадоксально, но это тем не менее так. В фольклоре с таким оксюморонным, алогично-каламбурным предложением мы можем встретиться запросто. Оно, кстати, отмечается В. Далем в качестве «кусочка» заговора от лихорадки: «Дома нет, приходи вчера». Здесь оно правильно и вполне на месте. Действительно, пусть болезни приходят вчера. Не только ветрило У Ф. И. Тютчева есть чудесное лирическое стихотворение «Восток белел…», прозрачное и трепетное двенадцатистишие, с композиционной и смысловой точки зрения организованное анафорой (т. е. единоначатием, повторением начальных частей отрезков речи) и градацией (т. е. нарастанием эмоционально-смысловой значимости: Восток белел… Восток алел… Восток вспылал…). В качестве анафоры выступает рефренное слово восток («часть горизонта, где восходит солнце»), а в качестве второй – глаголы белел, алел и вспылал как все большие степени рассвета. Начинается стихотворение так: Восток белел. Ладья катилась, В сборнике «Ф. Тютчев. Стихотворения» (М., 1976) в примечаниях к этой поэтической миниатюре объясняется только слово ветрило: «Ветрило (устар.) – парус». Действительно, это существительное как устаревшее слово, как архаизм требует объяснения на современном русском языке, хотя оно, несомненно, многим сразу напоминает стихотворение Пушкина «Погасло дневное светило…» («Шуми, шуми, послушное ветрило, Волнуйся подо мной угрюмый океан…») и является одним из слов традиционно-поэтической лексики. Между прочим, в русском языке слово ветрило не исконное и является заимствованием из старославянского языка (в памятнике древнерусской литературы – сборнике Святослава 1076 г. – встречаем: Красота воину оружие и кораблю ветрила). Иное дело слово ветрило – «ветер» в «Слове о полку Игореве» (О ветре! ветрило! Чему господине насильно вееши? что значит «О ветер, ветрило зачем господин, сильно дуешь?») с усилительным, а не орудийным суффиксом – {и)ло (таким же как сеичас суффикс – ила в словах громила, зудила и т. п.). 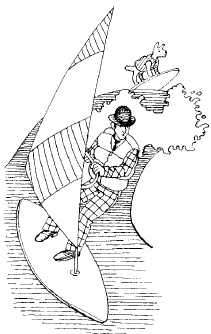 В стихотворении Тютчева «Восток белел…» объяснению в качестве ходовых в первой половине XIX в. традиционно-поэтических слов подлежат и другие слова и словосочетания. Это, во-первых, существительные ладья – «лодка», чело – «лицо, лоб», уста — «губы», взоры – «глаза», выя – «шея» и ланиты. – «щеки». Во-вторых, это чудесная перифраза в конце стихотворения капли огневые – «слезы», соотносительная с общенародным выражением «горячие слезы», но значительно более яркая и выразительная. Однако это не все. Вернемся к строчке: «Во взорах небо ликовало…» Мы теперь знаем, что во взорах значит «в глазах» (ср. у Пушкина в «Евгении Онегине»: С досады взоры опустив, Надулся он). И все-таки это не дает полного понимания строчки. Напротив, вызывает недоумение, как это в глазах может ликовать небо. Все встает на свои места только тогда, когда мы узнаем, что слово небо имело раньше переносное значение «блаженство, наслаждение, радость, что-то неземное» (ср. у Жуковского в «Плаче Людмилы»: Небеса вкушала я! т. е. «Я наслаждалась!»). Сыны Лвзонии и сыны Дронтгейма А теперь совершим с вами небольшое путешествие по одному из «Отрывков путешествия Онегина». Обратимся к описанию выхода театральной публики из Одесского оперного театра после оперы «упоительного» Россини: Финал гремит; пустеет зала; В этом кусочке последней строфы «Евгения Онегина» (за ней у поэта следует лишь предложение Итак, тогда в Одессе…) мы встречаемся не только со старой грамматической формой зала (вместо современного зал), устаревшим значением слова разъезд – «разъезжающиеся люди», архаическим произношением рифмующегося с существительным разъезд слова звезд со звуком [?э] (на месте современного звёзд), но и… с сынами Авзонии счастливой. Мне кажется, что для большинства из вас эта встреча будет непонятной. Что значит словосочетание сыны Авзонии! Его значение (между прочим, самое прозаическое) можно раскрыть очень просто. Но при двух условиях. Во-первых, надо иметь в виду, что перед нами перифрастическое обозначение лица по его национальной принадлежности. Во-вторых, надо знать, что такое Авзония. Тогда все становится на свои места. Как только мы узнаем, что слово Авзония – это старое название Италии (производное с помощью суффикса – ия от имени Авзона, который, по преданию, был первым царем Италии, сыном Одиссея и Цирцеи или Калипсо, ср. Колумбия – от Колумб, Боливия – от Боливар и т. д.), то красивое, но непонятное сочетание слов сыны Авзонии «сокращается» в самое привычное слово итальянцы. Эта перифраза встречается у Пушкина и в стихотворении «Кто знает край, где небо блещет…»: Людмила северной красой, А теперь обратимся к словосочетанию сыны Дронтгейма. Оно, вероятно, кажется вам не менее темным и неясным, нежели сыны Авзонии. Скажу сразу, что это не свободное сочетание, обозначающее сыновей какого-то человека по фамилии Дронтгейм. Мы вновь встретились (уже в стихотворении К. Н. Батюшкова «Тень Гаральда смелого») с перифразой, аналогичной разобранной выше. Вот содержащее ее четверостишие: О други! я младость не праздно провел! Сейчас мы ее разберем. Но сначала два замечания по тексту, связанные с грамматикой и фонетикой. В нем, во-первых, мы встречаемся с архаической формой други вместо друзья, а во-вторых, с устаревшим произношением е как [?э], а не [?о] в слове провел (ведь оно рифмуется со словом стрел – родительный падеж множественного числа от стрела). Итак, перифраза сыны Дронтгейма. В ней есть еще «не наша» огласовка топонима, т. е. географического названия, Тронхейм (название древней столицы Норвегии и современного города и окружающей их северной части Норвегии). А означает она «тронхеймцы». Заметим, что цитируемое стихотворение Батюшкова с рефренной строфической концовкой А дева русская Гаральда презирает представляет собой вольное переложение старинной норвежской песни, приписываемой скальду и одновременно королю Норвегии Гаральду III, за которым была замужем дочь великого киевского князя Ярослава Мудрого Елизавета. Перифразы со значением лица (не только по его национальной принадлежности, но по его занятию или свойствам) в русской поэзии были очень распространенными и частотными. Ср. сын Феба – «поэт», сын Марса – «воин», творец Макбета – «Шекспир», певец Корсара – «Байрон» и т. д. Перечитывая «Зимнее утро» Стихотворение «Зимнее утро» А. С. Пушкина давным-давно стало хрестоматийным и, конечно, очень хорошо вам известно. Его изучают в школе как одно из самых ярких стихотворений, посвященных зиме. В нем, по выражению А.Т.Твардовского, «все, кажется, на русском языке», все как будто бы и понятно и ясно. Однако как это на деле обманчиво! Сколько в действительности в этом произведении языковых трудностей и отступлений, которые мы вначале даже и не замечаем. А это, естественно, ведет к приблизительному, неточному пониманию и его отдельных деталей, и, значит, произведения в целом. Но обратимся к тексту, такому знакомому и близкому, многим известному наизусть. Начнем с первой строфы: Мороз и солнце; день чудесный! В этой строфе при замедленном чтении наш взгляд должен прежде всего остановиться на четвертой – шестой строчках открой сомкнуты негой взоры Навстречу северной Авроры, Звездою севера явись! В них содержатся не только два «темных» слова, хотя их неясность может быть не замечена, но и два устаревших ныне архаических факта. Во-первых, разве не удивляет вас словосочетание открой… взоры! Сейчас ведь только можно бросать взоры, устремить взоры, потупить взоры и т. д. Здесь же это существительное имеет старое значение – «глаза». Заметим, что поскольку слово взоры образовано от взирать – «смотреть», то оно по своей внутренней форме аналогично диалектному гляделка (от глядеть). Отмеченное значение слова взор встречается в художественной речи первой половины XIX в. постоянно. И не только в стихах! В романе Загоскина «Аскольдова могила» мы читаем: Неподвижные взоры Рогнеды горели каким-то диким огнем… В «Евгении Онегине» А. С. Пушкина герой появляется перед Татьяной, блистая взорами (…прямо перед ней, Блистая взорами, Евгений Стоит подобно грозной тени). И т. д. Идем далее. В следующей строчке нас поджидает собственное имя, написанное с большой буквы, Аврора, по своему значению являющееся нарицательным существительным со значением «утренняя заря» (по имени богини утренней зари в древнеримской мифологии). В такой роли слово Аврора Пушкиным используется неоднократно (ср. в «Евгении Онегине»: Ольга к ней, Авроры северней алей И легче ласточки влетает). Попутно отметим в этих же строчках стихотворения два устаревших грамматических явления. Такими являются, во-первых, усеченная форма прилагательного сомкнуты (вместо сомкнутые, т. е. «закрытые») и, во-вторых, словосочетание навстречу Авроры (вместо навстречу Авроре), где после предлога навстречу следует не дательный падеж существительного (ком у?), а родительный (к о г о?). Но читаем стихотворение дальше. Если вы знаете, что вечор – это не просто вчера или вечером (Вечор, ты помнишь, вьюга злилась), а «вчера вечером», то задержитесь немножко на следующей строчке: На мутном небе мгла носилась. Не кажется она вам несколько несуразной? Ведь в обычном актуально-частотном употреблении слово мгла значит сейчас «тьма, мрак»! Да, это слово здесь использовано поэтом в значении «густой снег, скрывающий в тумане как своеобразная завеса все окружающее» (ср. диал. мгла, мга в значении «изморось, метель»). Такую же «туманную», а не «темную» роль выполняет это существительное и в стихотворении Пушкина «Буря мглою небо кроет…». Думаю, что это еще не все, о чем нужно сказать. В четвертой строфе поэт говорит: Приятно думать у лежанки. Абсолютно понятно ли вам это предложение? Если да, то, не сомневаюсь, далеко не всем. И голос поэта мешает нам слышать здесь слово лежанка. И понятно почему. Даже по деревням сейчас в новых домах нет уже этого предмета обихода – невысокого, на уровне современной кровати выступа у русской печи, на котором, греясь, отдыхали или спали (ср. в одном из пушкинских писем: «Покамест я один-одинешенек; живу недорослем, валяюсь на лежанке и слушаю старые сказки да песни»). В этой же строфе подозрительно и странно звучит запречь на месте современного нормативного запрячь. Такая форма, несомненно, появилась тут у Пушкина на месте также известной ему формы запрячь как факт «поэтической вольности», позволяющей дать точную рифму (слово печь потянуло за собой вариант запречь). Ну, вот. Теперь замедленное чтение «Зимнего утра» подошло к концу. Наглая смерть «Степь» А. П. Чехова. Едет Егорушка учиться в город. Тянутся по степи подводы, сопровождаемые возчиками (или, как их называет автор, – подводчиками). Возникают самые различные разговоры. Среди иногда бессвязных фраз одного из таких подводчиков – Пантелея Холодова, обращенных к Егорушке, невольно останавливает наше особое внимание его утверждение, что «нет пуще лиха, как наглая смерть». Оно обращает на себя наши взоры прежде всего какой-то несуразностью словосочетания наглая смерть, хотя требуют известного объяснения и слова пуще – «сильнее, более» и лихо – «зло, несчастье». Правильно ли отмеченное словосочетание? Ведь прилагательное наглый – «грубый, бесцеремонный» обычно сцепляется с существительными, обозначающими человека и его свойства и действия: наглое поведение, наглый поступок, наглый взгляд, наглый обман и т. д. Говорит ли герой здесь о грубой и бесцеремонной смерти? Какая смерть в данном случае подразумевается? Разве смерть может быть ласковой и деликатной? Правильное понимание фразы нет пуще лиха, как наглая смерть дает знание нелитературного архаичного и диалектного значения слова наглый – «внезапный, неожиданный». Такое значение до сих пор еще свойственно ему в некоторых славянских языках (ср. пол. nagly – «внезапный, неожиданный», nagla smierc – «скоропостижная смерть», чеш. nahly – «внезапный, неожиданный» и т. д.). В «Степи» А.П.Чехов использует не наше значение слова наглый, поэтому разбираемое предложение надо понимать на современном русском литературном языке так: «Нет больше несчастья, нежели скоропостижная смерть». Если иметь в виду изображаемую писателем картину, то это прилагательное по его стилистической окрашенности в прямой речи персонажа может быть охарактеризовано как один из довольно многочисленных в «Степи» украинизмов (ср. укр. наглий – «неожиданный, внезапный»). Светоч, да не тот В современном русском литературном языке слово светоч имеет значение «носитель». По своему употреблению оно фразеологически связано и, говоря конкретно, употребляется не автономно, а всегда в соединении с родительным падежом абстрактных существительных, имеющих положительное значение. К таким относятся, в частности, мир, прогресс, свобода, правда, истина и т. д. (ср.: светоч мира, светоч правды и т. п.). Встречается слово светоч и в русской классике XIX в., но это уже, как говорится, Федот, да не тот. Я подробно писал об этом в новелле «О двух строчках из стихотворения М. Ю. Лермонтова «Смерть Поэта»», однако разбирал там лишь использование его Лермонтовым в строчке «угас, как светоч, дивный гений» из замечательного стихотворения, написанного на смерть А. С.Пушкина. В нем Лермонтов употребляет это слово в сравнении как светоч, поясняя глагол угас (в переносном значении обозначающий «умер»). Последнее позволяет нам даже без помощи словарей «просветить» старое значение слова светоч. Ведь угасать может только то, что горит. Следовательно, светоч – это буквально «все то, что, горя, освещает» (свеча, лучина, факел и т. д.). Скорее все-го, в лермонтовском контексте сравнение как светоч – творческая переработка элегических обозначений смерти (ср. у Ф. Глинки: Как бились вы на смерть Над Эльбой на плотине, Где Фигнер-партизан, как молния, угас и т. д.). Существительное светоч выступает здесь с наиболее распространенным значением – «свеча» и как бы перекликается со своим однокорневым синонимом свеча в народно-поэтическом языке.  Но обратимся к примерам использования слова светоч другими поэтами. Вот перед нами стихотворение А. А.Фета. Оно так и называется «Светоч». Здесь слово светоч, совершенно несомненно, значит «факел». Это очень ярко видно из самого текста: Ловец, все дни отдавший лесу, Здесь лирический герой «сделал» светоч – «факел» из зажженного смолистого сука сосны (ср. строчки – Горел мой факел величаво… и Чем ярче светоч мой горит). Отмечу попутно в приведенном стихотворении чуждые языковые особинки. Они являются важными для правильного понимания произведения. Это архаическое значение слова ловец (здесь оно обозначает «охотник», ср. поговорку на ловца и зверь бежит), устаревшее слово змей (в значении «змея», нам сейчас оно является родным лишь как обозначение сказочного крылатого чудовища и сооружения из бумаги или ткани, которые на нитке запускают в воздух) и архаическое значение слова лукаво – «извиваясь, с поворотами». Очень характерной для поэтического языка прошлого выступает цветистая перифраза Я направлял по нем стопы, равнозначная очень прозаическому и краткому «Я шел». Но пойдем дальше. Обратимся к известному полемическому стихотворению Н. А. Некрасова «Поэт и гражданин». В ночи, которую теперь Здесь мы тоже встречаемся со словом светоч в том же конкретном значении – «факел». Более того, даже в чем-то сходном со стихотворением «Светоч» Фета контексте, поскольку и у Фета, и у Некрасова – при описании как будто конкретной и обычной ночи – дается символическая картина жизненного пути человека. Особенно ясно и ярко это видно в стихотворении Некрасова, где наблюдается противопоставление слова ночь перифрастическому обозначению наступления дня. Вот такие, дорогие мои, пироги и щи Существительные пироги и щи в настоящее время являются самыми простыми, обычными словами, не вызывающими к себе никакого особого интереса. Нам прекрасно известно их значение, их разное множественное число: ведь слово щи имеет сейчас только множественное число, а слово пироги – и множественное, и единственное. Что же заставляет остановить наше внимание на этих названиях печеного изделия из теста с начинкой и одного из видов первого блюда? Сейчас скажу. Это фактически очень своеобразное употребление их в словосочетаниях в пушкинском и гоголевском текстах, а конкретно – в романе «Евгений Онегин» и поэме «Мертвые души». Но о каждом – по порядку. Вспомните первую главу «Евгения Онегина», когда герой с Кавериным обедает у Талона: Пред ним roast-beef окровавленный Не правда ли, очень выразительная картина стола? Но все ли вам здесь понятно? Скажу за вас – далеко не все. Если иностранная транслитерация современного ростбиф – «кусок жареной говядины», здесь «с кровью» – окровавленный, как тем более ананас, вас еще не смущают, то остальная еда Евгения Онегина видится, несомненно, «в густом тумане». Многим из вас известны трюфеля только как шоколадные конфеты. Здесь же речь идет… о растущих под землей съедобных грибах, имеющих округлую форму. Они были в ту пору деликатесным блюдом, «цветом» французской кухни. Понимая, что речь идет о сыре, вы, наверное, не представляете себе, что это за вид и почему он «живой» (Меж сыром, лимбургским живым). А это очень мягкий, сильно пахнущий сыр, имеющий на поверхности особые микроорганизмы слизи («живой»), по вкусу и выделке подобный современному дорогобужскому сыру. Ввозился он из Лимбурга, северной провинции Бельгии. Ну а теперь перейдем к словосочетанию Страсбурга пирог нетленный. Здесь слово пирог называет совсем не пирог. Страсбурга пирог (или страсбургский пирог, ср. из «Братьев Карамазовых» Достоевского: «– Да слушай: чтоб сыру там, пирогов страсбургских, сигов копченых, ветчины, икры, ну и всего, что только есть у них, рублей этак на сто или на сто двадцать») – это паштет из печенки, который привозили аж из Страсбурга. Как? Да в консервированном виде. На это и указывает прилагательное нетленный, т. е. «непортящийся». Замечу, что консервы в это время были еще в большую новинку. Ведь впервые они появились во времена наполеоновских походов. Но хватит о страсбургских пирогах. Обратимся к следующему слову – существительному щи. И конкретно к словосочетанию бутылка кислых щей. Не правда ли, странное и даже логически дикое соединение слов, коль скоро речь идет о современном языковом сознании и употреблении. Кислые щи для нас – «щи из квашеной капусты». Их в бутылку не наливают, их в ней и не варят, и не хранят. Для всего этого существует другая посуда, прежде всего тарелки и кастрюли. Поэтому словосочетания тарелка кислых щей и кастрюля кислых щей – самые привычные и обычные для нас словесные блоки. А вот сочетание слов бутылка кислых щей… кажется, такое, что можно придумать разве нарочно. Другое дело сочетания слов бутылка фанты, бутылка свежего кефира и т. п. Их мы и слышим, и произносим постоянно. И все-таки словосочетание бутылка кислых щей мною не придумано. Оно реально существует… в поэме «Мертвые души» Н. В.Гоголя. Его мы встречаем при описании первого же вечера пребывания Чичикова в городе NN. Вот предложение из первой главы поэмы, где оно предстает перед нами: «День, кажется, был заключен порцией холодной телятины, бутылкой кислых щей и крепким сном во всю насосную завертку, как выражаются в иных местах обширного русского государства». Прошу не считать здесь, что это словесная опечатка или Гоголь попросту ошибся и вместо слова тарелка употребил слово бутылка. Здесь все на месте. Только кислые щи здесь – не наши кислые щи. Что именно «употребил» Чичиков после порции холодной телятины, позволяет нам сразу решить замечательный собиратель слов русского языка – Владимир Иванович Даль. Стоит заглянуть в его «Толковый словарь живого великорусского языка» в словарную статью, посвященную объяснению существительного щи, как мгновенно исчезнет для нас мнимая странность и алогичность разбираемого словосочетания. Вот что мы здесь читаем: «Кислые щи, род шипучего квасу». Как видим, перед сном великий гастроном Чичиков телятину запил квасом. Фразы с перифразой В стихотворной речи особенно (хотя не чужды они и прозе) нам нередко приходится встречаться с самыми разными описательно-метафорическими и перифрастическими сочетаниями. Они выступают в поэзии и как дань литературной традиции, и как продукт индивидуально-авторских словесных преобразований. Перифразы, которые не являются прямым и однословным названием предмета речи, а содержат также и его описательно-метафорическую характеристику, в стихотворных произведениях оказываются одной из наиболее ярких их особенностей. Перифразы могут употребляться по-разному и быть самыми различными. Это относится и к их удачности и выразительности, и к тому, что можно назвать языковой трудностью. Иногда перифразы похожи на яркое и красочное сопровождение скромного словного названия. Тогда они являются в виде приложения, выступая как образное обозначение чего-либо, что рядом названо также и словом. Вот несколько примеров из произведений А. С.Пушкина. Питомцы ветреной Судьбы, («Вольность») Задумчивость, ее подруга («Евгений Онегин») Подруга думы праздной, («К моей чернильнице») Меж тем в лазурных небесах («Руслан и Людмила») Он рощи полюбил густые, («Евгений Онегин») Когда для смертного умолкнет шумный день («Воспоминание») Ведь это наконец и жителю берлоги, («Осень») Такие перифразы (если они не содержат неизвестных компонентов) вполне понятны и «схватываются» совершенно свободно. Однако значительно чаще перифразы употребляются сами по себе, абсолютно самостоятельно, в качестве единственного в данном контексте обозначения тех или иных предметов, лиц, явлений, действий, состояний и т. д. В таких случаях (при поверхностно-быстром чтении) их легко или не заметить, или не понять сообщаемого вообще. Естественно, что в этом случае их приходится комментировать. Приведем несколько иллюстраций таких перифраз, одновременно сопровождая их переводом на «язык смиренной прозы». Давайте обратимся прежде всего к «Евгению Онегину» А. С.Пушкина. Остановимся на нескольких перифразах из этого хорошо знакомого (и такого неведомого) произведения. Читаем конец четвертой главы в лирическом отступлении поэта – перед нами во всей своей красе перифрастическая характеристика местоимения мы: Меж тем, как мы, враги Гимена, Раскрывающая неясное мы перифраза враги Гимена переводится словами «убежденные холостяки» (Гимен или Гименей – мифологический бог брака у греков и римлян, ср. немного выше в устах Онегина: «Судите ж вы, какие розы Нам приготовил Гименей», Гименей – «брак»). Через несколько страниц (в XLIV строфе шестой главы) мы встречаемся с расхожим в то время поэтическим определением молодости: Ужель и впрямь и в самом деле С этой перифразой перекликается всем известное по арии Ленского метафорическое определение молодости в той же главе: «Куда, куда вы удалились Весны моей златые дни?» Заметим, что данная перифраза является излюбленной в поэзии первой половины XIX в. и восходит к французскому источнику. Впервые ее мы находим в переводе Милоновым элегии Мильвуа (ср. у А. Шенье: «О jour de mon printemps»). В третьей главе имеется даже такая перифраза, которую объясняет в своих примечаниях сам Пушкин: Певец Пиров и грусти томной, Его 22-е примечание гласит: «Е. А. Баратынский». Здесь поэт счел необходимым даже растолковать свое индивидуально-авторское выражение, не надеясь на современного читателя: вдруг не вспомнит знаменитую его поэму «Пиры» и смешает ее (несмотря на большую букву П) с нарицательным существительным пиры. Описательное обозначение человека с помощью написанного им произведения наблюдается очень часто и является актуальным и сейчас. Вспомните хотя бы вторую строфу первой главы с перифразой Друзья Людмилы, и Руслана! (= «Мои друзья!»). Дочитываем снова (в который раз!) роман. Вот вторая половина двадцать восьмой строфы восьмой главы: И он ей сердце волновал! Здесь целый цветник перифраз. И он ей сердце волновал – «И она его любила», во мраке ночи – «ночью», пока Морфей не прилетит – «пока не уснет», К луне подъемлет томны очи – «смотрит томно на луну», Мечтая с ним когда-нибудь Свершить смиренный жизни путь – «Мечтая когда-нибудь выйти за него замуж, прожить с ним всю жизнь». Заглянем теперь в стихи А. С.Пушкина. В стихотворении «Алексееву» вместо простого молодость мы читаем: Пришел веселой жизни праздник. «Воспоминания в Царском Селе» (1814) содержит перифразу чада (= «дети») Беллоны (богини войны), равнозначную слову воины: И тени бледные погибших чад Беллоны, В этом же стихотворении нас ждет и более кроссвордный случай: Где ты, любимый сын и счастья и Беллоны, Сыном и счастья и Беллоны поэт называет здесь Наполеона. О римлянах в стихотворении «Лицинию» Пушкин говорит перифразой Ромулов народ (Ромул, по преданию, один из основателей Рима, ср.: «Но дней минувших анекдоты от Ромула до наших дней Хранил он в памяти своей» = «Но все истории прошлого он помнил»): О Ромулов народ, скажи, давно ль ты пал? Смерть шутливо в стихотворении «Кривцову» поэтом именуется новосельем гроба: Не пугай нас, милый друг, В стихотворении «N. N.» (В. В. Энгельгардту) не менее шутливо и удачно автор вместо выздоровел использует перифразу ускользнул от Эскулапа (Эскулап – «врач»): Я ускользнул от Эскулапа Решите сами Переведите на современный язык  Вы уже познакомились с одной из характерных черт русской поэзии первой половины XIX в.: довольно большим количеством перифраз самого различного характера. Вместо прямого названия какого-либо предмета или явления поэт зачастую прибегает к его описанию. Это выражается в том, что там, где мы могли бы обойтись словом, в стихотворном произведении возникают целые словесные сообщества, содержащие обязательно какой-то яркий и примечательный признак обозначаемой реалии. Вот несколько перифраз из произведений А. С.Пушкина. Выделите и переведите их на современный язык сначала сами. Затем узнаете, насколько успешно вы это сделали, из ответов. Прости мне, северный Орфей, («Руслан и Людмила») Она почила вечным сном. (Там же) «Мой друг, – ответствовал рыбак, — (Там же) Забытый светом и молвою, (Там же) Приветствую тебя, пустынный уголок, («Деревня») И вы забыты мной, изменницы младые, («Погасло дневное светило…») Я предаюсь своим мечтам… («Брожу ли я вдоль улиц шумных…») Мы все сойдем под вечны своды. (Там же) Мой путь уныл. («Элегия») Пока не прилетит Морфей. («Евгений Онегин») Когда ленивый мрак («Городок») Иль думы долгие в душе моей питаю. («Осень») Улыбкою ясною природа («Евгений Онегин») Быть может, в Лете не потонет (Там же) Усталый, с лирою я прекращаю спор. («Зима. Что делать нам в деревне?..») Подведем итоги и посмотрим ответы. В приведенных отрывках содержатся следующие перифразы: Северный Орфей – «Жуковский», вослед (тебе) лечу – «(тебе) подражаю», почила вечным сном – «умерла», душе наскучил бранной славы Пустой и гибельный призрак – «мне надоело воевать», (далече) от брегов Невы – «(далеко) от Петербурга», (Кавказа) гордые главы – «горы (Кавказа)», пустынный уголок, приют спокойствия, трудов и вдохновенья – «деревня», где льется дней моих невидимый поток – «где я живу», на лоне счастья и забвенья – «счастливый и забытый», (моей) весны златыя – «(моей) молодости», (я) предаюсь своим мечтам – «(я) мечтаю», сойдем под вечны своды – «умрем», грядущего волнуемое море – «будущая жизнь», (пока) не прилетит Морфей – «(пока) не уснет», Когда ленивый мрак Покроет томны очи – «когда уснет», Иль думы долгие в душе моей питаю – «или долго думаю», (встречает) утро года – «(встречает) весну», (усталый), с лирою я прекращаю спор – «(усталый), я перестаю писать». Об одном довольно странном окончании Внимательно читая стихотворную классику первой половины XIX в. (и тем более поэзию ХVIII в.), вы иногда встречаетесь с такой формой прилагательных, которая в современном склонении, как говорится, не значится. Даже если вы правильно поймете падежный смысл этой формы, слова, имеющие ее, могут все же озадачить, поставить в тупик видимым несоответствием форм прилагательного и определяемого им существительного. Это явление объясняется тем, что здесь мы сталкиваемся с ныне уже устаревшим окончанием прилагательных женского рода. Но обратимся к примерам: Нигде я ничего не внемлю (= «слышу». – Н. Ш.), (Г. Р. Державин. Водопад) В прекрасный майский день, (Г Р Державин. Прогулка в Сарском Селе) Чем дышит твоя напряженная грудь? (В. А. Жуковский. Море) Ах! Когда б я прежде знала, (И. И. Дмитриев. Песня) О сладость тайныя мечты! (В А Жуковский Певец во стане русских воинов) Спущусь на берега пологие Двины (К. Н. Батюшков. Послание графу Вильегорскому) Вчера еще стенал (= «стонал». – Н. Ш.) над (Там же) Не изменю тебе воспоминаньем тайным, (А С Пушкин Фавн и пастушка) Где ток уединенный (А С Пушкин К Делии) Во всех отмеченных прилагательных женского рода (а он легко устанавливается по соответствующему роду определяемых существительных) мы наблюдаем неизвестное уже нам окончание – ыя (-ия). Это странное окончание – ыя (-ия) является окончанием родительного падежа единственного числа в церковнославянском языке. Оно синонимично единственному сейчас у прилагательных женского рода окончанию– ой (-ей). Сочетания ревущая волны, ясныя погоды, земныя неволи, полуночныя звезды, тайныя мечты, волшебныя струны, уг-рюмыя горы, весны роскошныя, минутныя любви, сребристыя волны, милыя мечты равны, таким образом, современным сочетаниям: ревущей волны, ясной погоды, земной неволи, полуночной звезды, тайной мечты, волшебной струны, угрюмой горы, весны роскошной, минутной любви, серебристой волны, милой мечты. Формы на – ыя (-ия) по своему происхождению являются церковнославянскими и всегда встречаются только в книжной речи. В устной речи употребляются только исконно русские формы на – ой (-ей), которые возникли из более старых ок (ок). Уже в начале XIX в. окончание – ыя (-ия) даже в письменной речи было архаическим. Спрашивается: почему же оно, несмотря на это, поэтами все-таки изредка употребляется? Однозначного ответа на поставленный вопрос дать нельзя. И вот почему. Дело в том, что это окончание может использоваться поэтами по разным причинам. Чаще всего форма на – ыя (-ия) используется ими в качестве одной из поэтических вольностей. Ведь– ыя (-ия) вместо – ой (-ей) давало в распоряжение стихотворцев лишний слог, что в версификационном отношении было совсем не лишним, позволяло сделать строчку как определенную метрическую структуру. В таких случаях эти формы родительного падежа единственного числа прилагательных женского рода используются поэтами потому, что они… разрешались, допускались как возможные варианты обиходных и привычных на – ой (-ей). Так же как, например, произношение F как [?э], а не [?о]. Однако формы на– ыя (-ия) могут использоваться и по другим причинам. Иногда они выступают в художественном тексте как одно из стилеобразующих средств языка. У настоящих художников слова устаревшие морфологические явления при этом находятся в полном согласии с другими (прежде всего, конечно, с лексическими и фразеологическими) явлениями языка. Такими стилистически мотивированными формами с окончанием – ыя (-ия) являются, например, у зрелого Пушкина прилагательные мудрыя (= «мудрой») и зеленыя (= «зеленой»). В стихотворении «Пророк» Пушкин использует форму мудрыя: … И жало мудрыя змеи для создания «высокого слога», торжественно-патетического характера ораторской речи. В «Сказке о мертвой царевне и о семи богатырях», напротив, поэт использует соответствующую форму для создания народно-языкового колорита: И ей зеркальце в ответ: Как видим, окончание – ыя (-ия) как двуликий Янус: оно выступало у поэтов то в качестве простой, ничего не значащей, но выгодной поэтической вольности, то как одно из морфологических средств языка, играющее важную художественную роль. Во второй половине XIX в. это окончание практически сходит со сцены. Тем более неожиданным и удивительным представляется нам его употребление в прозе. Как может ни показаться странным, оно вдруг предстает перед нашими глазами на страницах… «Отцов и детей» И. С. Тургенева для речевой характеристики персонажа: «Оно же и довело его до острова святыя Елены». О словосочетании о третьем годе В настоящее время предложный падеж существительного в сочетании с предлогом о (об, обо) имеет только изъяснительное значение, сигнализируя либо о предметных (прочитать о словосочетании, подумать как следует о слове, потолковать об устаревших фактах грамматики и т. д.), либо о предметно-определительных отношениях (заметки о языке писателя, воспоминания о прошлом годе и др.). В соответствии с правилами современной русской грамматики построены и две предложно-падежные формы, образующие заглавие новеллы, которую вы читаете. Но речь в ней пойдет не о словосочетании о третьем годе в его нынешнем нормативном значении (ср.: Он долго писал о третьем годе своей работы над книгой). Это комментировать не надо, все ясно как день. Тогда (можете спросить вы) в чем же дело? Давайте не спешить. Обратимся к стихотворению… Б. Пастернака «Так начинают…»: Так начинают. Года в два Прочитайте эти строчки медленно, и вы поймете, что здесь конструкция «предлог о + предложный падеж» играет совсем другую роль и выражает временные отношения. Поэт пишет, что слова у детей появляются на третий год их жизни. Словосочетание о третьем годе, таким образом, переводится как «на третьем году (жизни)». О том, что речь идет о детях, недвусмысленно говорит устаревшее мамка – «нянька, кормилица», ср.: «До пяти лет он был на руках кормилицы и мамок» (ДобролюбовН.А. Первые годы царствования Петра Великого); «Василиса, женщина бывалая, служившая когда-то у господ в мамках, а потом в няньках, выражалась деликатно» (ЧеховА.П. Студент). Как видим, Б. Пастернак употребляет здесь несвойственную нашему языку грамматическую форму, омонимичную той, которая имеется в литературном стандарте. Что это за явление? Может быть, это случайное и невольное нарушение существующих грамматических правил? Или это пастернаковский неологизм грамматического характера? Ведь у поэта лексические и сочетаемостные новшества встречаются нередко. Оказывается, ни то, ни другое. В рассматриваемом четверостишии мы встречаемся, напротив, с архаическим фактом грамматики: старым и древним предлогом о (об, обо) временного значения. Пастернак употребил его сознательно, вероятно, как явление, в 20-х гг. в просторечии еще известное, сообразно с литературной традицией, допускавшей подобные отклонения от литературной нормы. В приводимом отрывке устаревшее просторечное словосочетание о третьем годе гармонирует с архаическим просторечным словом мамка, и, возможно, именно им было вызвано здесь к жизни. Вернемся в XIX в. За примерами аналогичного характера далеко ходить не надо. Так, в посвящении к поэме «Руслан и Людмила» Пушкин пишет: Там лес и дол (= «долина») видений полны; Знал ли Пушкин орфографию Начинаем читать XV строфу первой главы «Евгения Онегина» и останавливаемся в недоумении: Бывало, он еще в постеле: В постеле. Так и напечатано с е на конце слова вместо ожидаемого по правилам орфографии и. Что это? Опечатка? Как показывают все существующие авторитетные издания А. С. Пушкина, – нет, не опечатка. Написание в постеле точно передает подлинный пушкинский текст. Тогда что же это такое? Может быть, поэт здесь воплотил свое шутливое кредо: «Как уст румяных без улыбки, Без грамматической ошибки Я русской речи не терплю» – и нарочно «изобразил» е на месте правильного и? Или он не знал правил правописания? Ни то, ни другое. Все у Пушкина здесь правильно. И буква е стоит на месте единственно возможной по правописным канонам буквы е. В чем же тогда загвоздка? Все объясняется очень просто. В пушкинское время это слово относилось не к третьему, а к первому склонению существительных женского рода и звучало (а значит, и писалось) постеля, склоняясь точно так же, как слова земля (в земле), пустыня (в пустыне) и т. п. Конечно, в целом грамматика русского литературного языка со времен Пушкина особых изменений не пережила, но свои черточки все же имеет. В частности, это касается и иного оформления ныне существующего существительного (и с точки зрения склонения, и в плане рода, и по отношению к роду и склонению одновременно, и с точки зрения основы и, следовательно, окончания). Виждь и другие Эта устаревшая грамматическая форма всем, вероятно, известна по заключительному четверостишию стихотворения А. С. Пушкина «Пророк»: «Восстань, пророк, и виждь, и внемли, В нем она стоит в одном ряду с формами повелительного наклонения восстань, внемли, исполнись, жги. Все перечисленные глаголы принадлежат к нашей грамматике, внимания на себя не обращают и замечаний не вызывают (ср.: брось, разбери, зажгись и т. д.). Другое дело слово виждь. Оно значит – «посмотри, погляди». Эта и ранее редкая форма сейчас совершенно вышла из употребления, и глагол видеть является «дефектным» – не имеет своей собственной повелительной формы (вроде «виждь» или «вижь»), а использует в нужных случаях соответствующую форму синонимов посмотреть, поглядеть. Архаическая форма виждь у Пушкина в этом контексте является вполне оправданной, полностью согласуется со своим словесным и лексико-фонетическим, грамматическим окружением и служит – вместе с ними – для создания торжественно-патетического, ораторского стиля. В самом деле, вспомните слова внял – «понял, услышал», перстами – «пальцами», зеницы – «глаза», отверзлись – «открылись», горний – «в вышине», уста – «губы», ход – «движение», десница — «правая рука», внемли – «слушай», глаголы водвинул – «вдвинул», восстань и т. д. Обратите также внимание на еще две устаревшие грамматические формы – родительный падеж единственного числа на – ыя (-ия) – ой («И жало мудрыя змеи») и родительный падеж множественного числа с нулевым окончанием (вместо – ов) – «И гад (= «гадов») морских подводный ход» (буквально «и плаванье земноводных животных»). Форма виждь перешла к А. С. Пушкину по наследству от его предшественников. Так, в «Прогулке в Сарском Селе» Г. Р. Державина мы читаем: Я тут сказал, – Пленира! Форма виждь оживает с теми же стилистическими целями в поэме «Октоих» С. А. Есенина, правда в переоформленном, ненормативном виде – с конечным и по образцу форм типа гляди, прозри. Связь с соответствующей пушкинской строкой несомненна: Восстань, прозри и вижди! «Высокое» виждь в переводах, естественно, должно передаваться такими же торжественными словами. Поэтому нас совершенно не может, например, устроить перевод этого слова в «Пророке» Пушкина на болгарский язык словом виждам – «видеть». В последнем глагол виждам такой же стилистически нейтральный, как в русском языке смотреть, глядеть. В заключение о слове, одинаково начинающем четверостишие Пушкина и четверостишие Есенина, – о глаголе восстань. Оно требует обязательного разъяснения. Ведь восстать сейчас значит «поднять восстание» или «выступить против чего-либо» (ОжеговС.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка). В пушкинском же тексте, равно как и есенинском, оно является простой вокализованной формой, т. е. с добавочным незакономерным гласным (с о, ср. водвинуть Пушкина, вослед Есенина и т. д.), самого обычного глагола движения встать – «подняться». Навстречу Печорина Первое впечатление от заглавия заметки – удивление. То ли предлог напечатали слитно с предложно-падежной формой существительного встреча, то ли наборщики неверно набрали а вместо «правильного» окончания– у. Но как обманчивы бывают наши современные грамматические знания о русском языке, когда дело касается его даже сравнительно недавнего прошлого! Но обратимся к соответствующей новелле («Максим Максимыч») романа М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени»: «Навстречу Печорина вышел его лакей и доложил, что сейчас станут закладывать» (лошадей. – Н. Ш.). Мы видим, что перед нами предлог, но за ним следует существительное в родительном, а не дательном падеже. Вот еще один факт «не нашей грамматики», который хотя и не мешает нам понимать художественный текст, но все же затрудняет своей необычностью его непосредственное восприятие. С таким же навстречу встречаемся мы и у А. С. Пушкина в «Евгении Онегине»: Не тут-то было: как и прежде, Раньше предлог навстречу, как видим, требовал после себя родительного падежа. И это понятно, поскольку по своему происхождению он представляет собой слияние предлога на и существительного встреча, требовавшего за собой родительного падежа. И у Лермонтова, и у Пушкина навстречу U род. п. – простые архаизмы времени, т. е. формы самые обычные и верные. А вот случай, который приводится 17-томным академическим «Словарем современного русского литературного языка» из популярной в 30-х гг. XX в. песни Корнилова и Шостаковича, возвращает нас к началу заметки: Не спи, вставай, кудрявая! Если здесь не опечатка, то мы уже должны говорить о поэтической ошибке или, по крайней мере, небрежности: поэт форму дня использует в чисто версификационных целях, как поэтическую вольность (чтобы срифмовать его со словом звеня). Между тем, как неоднократно уже говорилось, сейчас архаизмы в образцовом поэтическом тексте могут употребляться только с определенными стилистическими задачами. Время Пушкина, Лермонтова, Тютчева, которые могли – в силу действующих правил поэтических вольностей – употреблять, например, для рифмовки уже в их время архаические формы ея вместо ее («На крик испуганный ея ребят дворовая семья Сбежалась» – А. Пушкин; «Примите же из рук ея то, что и вашим прежде было. Что старочинская семья такой ценой себе купила» – Ф. Тютчев), окончание – и вместо – е предложного падежа («Блажен, кто верит небу и пророкам, – Он долголетен будет на земли» – М. Лермонтов), окончание – ы вместо современного – а («Край этот мне казался дик: Малы, рассеяны в нем селы, Но сладок у лесной Карелы Ее бесписьменный язык» – Ф. Глинка) и т. д., прошло. Пойдёт – не пойдёт ВВ этой и следующих заметках пойдет речь о парадоксальном на первый взгляд явлении, когда мы, читая стихотворную классику XIX в., оказываемся вынужденными… нарушать нормы современного литературного произношения. В самом деле, по существующим сейчас орфоэпическим правилам исконный звук е в положении после мягких согласных под ударением перед твердыми произносится ныне только как [?о]: живёт, зовёт, несёт, полёт, зелёный, мёд, слёз, закалённый и т. д. (вспомним, что значком [?] обозначается мягкость предшествующего согласного звука). Собственно говоря, в приведенных словах и формах (по своему возрасту – не старше XV в.) в настоящее время живет уже звук [о], а не [э], т. е. буква Q. К графическому знаку ё для недвусмысленного выражения такого о обращаются очень редко: либо в учебных целях, либо для дифференциации, различения разных по смыслу звучаний (ср. все и всё). В нашей речевой практике поэтому все указанные выше и подобные им слова и формы неукоснительно произносятся с [?о]. Такое обстоятельство приводит к тому, что окончание – ет в глаголах 3-го лица единственного числа существует только… на бумаге. В устной речи это орфографическое– ет всегда выступает как [?от]. И все-таки это наблюдается не всегда. Такое правило относится лишь к современной разговорной речи. В ее пределах из него нет никаких исключений. В ней действительно всегда перед нами окончание [?от]. А вот при воспроизведении стихотворений прошлого нам иногда придется современные нормы нарушать. И здесь правильное пойдёт уже не пойдет. Предъявленные нам поэтом версификационные условия заставят нас говорить «неправильно», не так, как, казалось бы, мы должны это делать, заботясь о чистоте и правильности нашего языка. В противном случае стихи потеряют свою основную черту, отличающую их от прозы, – рифмовку. А без рифмы, этой неразлучной подруги всякого поэта, строки произведения просто рассыплются, как карточный домик. Вот первый пример из басни И. А. Крылова «Лебедь, Щука и Рак». Вспомните, как она начинается: Когда в товарищах согласья нет, Конечное нет первой строчки вынуждает нас читать слово пойдет не с [?о], а с [?э]. Иначе стихотворение перестанет быть стихотворением. Таким образом, оказывается, есть случаи, когда – чтобы не разрушать стих как нечто фонетически организованное – мы должны нарушать наши нормы произношения. Приведем еще несколько иллюстраций, когда в аналогичных случаях поэтическая орфоэпия приходит в противоречие с законами современной литературной фонетической системы: Все погибло: друга нет. (В. А. Жуковский. Светлана) Посмотрите! в двадцать лет (К. Н. Батюшков. Привидение) Три примера из произведений А. С. Пушкина уже не на глагольные формы 3-го лица единственного числа: Когда б оставили меня («Не дай мне Бог сойти с ума…») Но человека человек («Анчар») Я вас любил безмолвно, безнадежно, («Я вас любил…») Во всех приведенных случаях, читая стихи, приходится произносить не идёт, даёт, взойдёт, грёз, потёк, безнадёжно (со звуком [?о]), а нейдет, идет, дает, взойдет, грез, потек, безнадежно (с [?э]), переступая правила современной орфоэпии. Возникает законный вопрос: что представляют собой разобранные факты у поэтов XIX в.? Может быть, они срифмовали так соответствующие слова потому, что так произносили их носители русского литературного языка той эпохи? Такое предположение было бы неверным. В процессе живого общения давным-давно все образованные люди даже начала XIX в. говорили так, как было положено по законам русской разговорной речи. Так что поэты здесь не следовали произносительному обиходу и тоже его нарушали. Однако это не было следствием их языкового небрежения или пробелов в художественном мастерстве. И квалифицировать у них соответствующие факты как фонетические ошибки нельзя. В рифмовке типа пойдет – нет они следовали за сложившейся традицией использования того, что называется поэтическими вольностями. О них писал уже основатель русского силлаботонического стиха, известный ученый и поэт В. К. Тредиаковский в первом издании его книги «Новый и краткий способ к сложению российских стихов» (1735), которая открыла новую эру силлаботонического стиха, основанную на системе ударений русского языка. Русский поэт и теоретик стиха, автор «Словаря древней и новой поэзии» (1821) Н.Ф. Остолопов определяет поэтическую вольность таким образом: «Вольность пиитическая, licentia, есть терпимая неправильность, погрешность против языка, которую делают иногда поэты для рифмы либо для меры в стихосложении». Именно данью старой традиции стихосложения и объясняются употребленные в чисто версификационных целях случаи типа пойдет вместо пойдёт и у Крылова, и у других более поздних поэтов. Реже эта поэтическая вольность фонетического характера (есть поэтические вольности и иного рода) наблюдается даже после Лермонтова, стихи последних лет которого являются в этом отношении поразительно чистыми. Так, Ф. И.Тютчев в стихотворении «Два голоса» рифмует слово прилежно и безнадежна, в стихотворении «Не раз ты слышала признанье…» – слова умиленно и колено, в стихотворении «Певучесть есть в морских волнах…» – слова протест и звезд и т. д. Надо отметить, что поэтические вольности допустимы лишь до определенных пределов. Их небольшой набор является закрытым для новообразований, и они всегда используются поэтом сознательно. Невольные отступления от произношения литературного стандарта (и не только у современных поэтов) – уже не поэтические вольности, а ошибки. Но об этом вы прочитаете в новелле «Что позволено Ломоносову, не позволено Есенину». Ты пищу в нем себе варишь В этой фразе из стихотворения Пушкина «Поэт и толпа» нет ничего нелепого по значению. Мысль поэта очень проста и читателю вполне понятна. Ведь предшествует ей такая прозаическая строка: «печной горшок тебе дороже». И все же есть в ней нечто, что не соответствует нашим языковым привычкам и поэтому требует комментирования. Таким фактом является слово варишь, вернее – характерное для него в данном стихотворном тексте ударение на окончании – варишь. Что это такое? Одна из пушкинских вольностей (или ошибка), которые нередко наблюдаются и у наших современных поэтов, или устаревшее ударение? Сейчас же мы говорим – варишь. Обращение к системе русского литературного языка XIX в. показывает, что перед нами акцентологический архаизм. В пушкинское время говорили еще варишь. Как показывают соответствующие лингвистические исследования, процесс перетяжки ударения в глаголах с окончания на основу тогда еще только начинался. И сейчас, кстати, он еще продолжается. Этим объясняются, в частности, варианты типа звонишь – звонишь и различная их нормативная оценка в настоящее время.  Как беспристрастно и наглядно говорит история, тенденция переноса ударения на основу в словах усиливается и захватывает все большее число глаголов. Для нас сейчас правильно только варишь. Это лишний раз свидетельствует о «правах», наряду с формой звонишь и звонишь, на которую некоторые лингвисты «со своей речевой колокольни» накладывают запрет. В XIX в. наконечное ударение встречается нередко и свойственно целому ряду подобных глаголов. Ритмика стиха об этом буквально кричит. Приведем несколько примеров из произведений различных поэтов. Так, у Г. Р. Державина в стихотворении «Фелица» читаем: Или средь рощицы прекрасной В последнем слове сейчас ударение падает на корень: дыш(ит). Ф. И. Тютчев в стихотворении «Не то, что мните вы, природа…» с наконечным ударением (на месте современного ударения на основе) рифмует глагол приклеил с существительным сила: Вы зрите (= «видите») лист и цвет на древе: Устаревшее ударение на окончании наблюдается в глаголе манит в стихотворении А.Блока «В густой траве пропадешь с головой…»: Заплачет сердце по чужой стороне, Ц или С? Все вы прекрасно помните, как восхитило Г. Р. Державина выпускное стихотворение лицеиста Пушкина «Воспоминания в Царском Селе». Воспоминание об этом событии отложилось у А. С.Пушкина в «Евгении Онегине»: «Старик Державин нас заметил И, в гроб сходя, благословил». Откройте, однако, томик Державина, и вы увидите в нем стихотворение «Прогулка в Сарском Селе». Вероятно, это то, от чего А. С.Пушкин отталкивался, создавая свою знаменитую оду. Но не будем влезать в историю его стихотворной учебы. Обратимся (вы на это наверняка уже обратили внимание) на начальные звуки и буквы прославленной местности (ныне город Пушкин). Почему у одного поэта ц (Царское Село), а у другого с (Сарское Село)? Чем это объясняется? Нет ли здесь чего-то, что мы не знаем? Ведь не мог же Державин ошибаться? В своем произведении он привел более старую и более «правильную» форму относительного прилагательного, образованного от сочетания Сарское Село. Именно так оно называлось до народно-этимологического переосмысления в Царское село в связи с тем, что в нем находилась летняя царская резиденция. Сарское Село произошло из Саарское Село и представляет собой перевод по частям эстонского saaprekula (saapre – «островное», kula – «село, деревня»). Первоначальное поселение находилось на острове озера. Решите сами В гостях у Пушкина  Из прочитанного ранее вы теперь хорошо знаете, насколько иногда простой, на первый взгляд, художественный текст оказывается на проверку непростым, какие – самые разнообразные – языковые препятствия, особенности и лингвистические загадки он нередко в себе заключает. Хочу предложить вам попытаться решить самостоятельно несколько «задачек на лингвистическое комментирование», сделать самим то, что делалось прежде мною. Если вдруг у вас что-нибудь не получится и языковая загадка останется для вас все же загадкой, обращайтесь за помощью к толковым словарям русского языка (прежде всего к 4-томному академическому «Словарю русского языка» под ред. А.П. Евгеньевой. М., 1981–1984), затем проверьте правильность по моим ответам, которые даются следом. Но не заглядывайте в них до того, как хорошенько подумаете и попробуете разобраться сами. Итак, в который раз мы в гостях у Пушкина. Что обозначают выделенные мною курсивом в приводимых отрывках формы, слова или обороты? Как они соотносятся с современными? Определите их лингвистический характер, используя соответствующие термины. 1. Там о заре прихлынут волны («Руслан и Людмила») 2. В толпе могучих сыновей, (Там же) 3. Другой – Фарлаф, крикун надменный, (Там же) 4. Бояре, задремав от меду, (Там же) 5. Уже скрываются вдали; (Там же) 6. Ночлега меж дерев искал… (Там же) 7. Он на долину выезжает (Там же) 8. Погасло дневное светило; («Погасло дневное светило…») 9. Я вас бежал, отечески края… (Там же) 10. Когда для смертного умолкнет шумный день, («Воспоминание») 11. Еще дуют холодные ветры («Еще дуют холодные ветры…») 12. Подъезжая под Ижоры, («Подъезжая под Ижоры…») 13. Если ж нет… по прежню следу (Там же) 14. День каждый, каждую годину («Брожу ли я вдоль улиц шумных…») 15. Как весело, обув железом острым ноги, («Осень») 16. Люблю я пышное природы увяданье… (Там же) 17. Довольно, сокройся! Пора миновалась, («Туча») 18. В пустыне чахлой и скупой, («Анчар») 19. Но человека человек (Там же) 20. Дробясь о мрачные скалы?, («Обвал») 21 И Терек злой под ним бежал (Там же) 22. Дохнул осенний хлад – дорога промерзает. («Осень») 23. И ветер, лаская листочки древес, («Туча») Давайте теперь проверим себя и посмотрим, правильно ли выполнено задание. Вот краткие ответы. Надеюсь, что многие из них вам были нужны только, чтобы убедиться, что на вопросы вы ответили верно. 1. О заре – «на рассвете», предложный падеж с устаревшим временным значением. Брег – «берег» (ср. в «Евгении Онегине»: «Родился на брегах Невы» и «На берегу пустынных волн стоял он, дум высоких полн» в «Медном всаднике»). 2. Гридница – «особое помещение в княжеском доме для приема гостей или пребывания воинов». Историзм. 3. Побежденный – произношение со звуком [е], а не [?о] (вместо побеждённый) обусловлено необходимостью рифмовки с прилагательным надменный и является одной из поэтических вольностей. 4. От меду (вместо от меда). Родительный падеж на – у в начале XIX в. в склонении вещественных существительных был литературной нормой. Сейчас воспринимается уже как просторечная форма. 5. Боле – «больше», старая форма сравнительной степени к прилагательному болий – «большой». 6. Дерев – «деревьев», старая форма родительного падежа от дерево, очень распространенная в поэзии XIX в. 7. На скалах (вместо «на скалах»), устаревшее ударение на окончании в поэтическом языке XVIII–XIX вв., которое было характерно для многих существительных женского рода на – а. Одна из поэтических вольностей в области ударения. В устной речи в это время безраздельно господствовало современное ударение на корне. Зубчаты – «зубчатые». Данное прилагательное является усеченны прилагательным, а не кратким. Последнее в русском языке всегда выступает в качестве сказуемого как его именная часть. Здесь же оно выполняет роль определения. Усеченные прилагательные в русской поэзии первой четверти XIX в. – одна из самых частых вольностей, служивших размеру. 8. Погасло дневное светило – «солнце», перифраза. Ветрило – «парус». 9. Отечески – «отеческие», усеченное прилагательное. 10. Смертный – «человек», для смертного – «для людей», архаизм. Стогна – «площади», град – «город», старославянские по происхождению слова, характерные для поэтической речи XVIII–XIX вв. Полупрозрачная наляжет ночи тень – «наступит ночь», перифраза. 11. Утренни – «утренние», усеченное прилагательное (см. выше). 12. Воспомнил – «вспомнил», вокализованная форма церковнославянского происхождения, употребляемая Пушкиным как одна из поэтических вольностей фонетического характера, взоры – «глаза». 13. Прежню – «прежнему», усеченное прилагательное (см. выше). 14. Година – «час», грядущая – «будущая», годовщина – «время». 15. Обув железом острым ноги – «одев коньки», индивидуально-авторская перифраза А. С.Пушкина. 16. Покрыты – «покрытые», усеченное прилагательное (см. выше). 17. Сокройся – «скройся» (см. выше: воспомнил). 18. Раскаленный – с [?э], а не с [?о] того же характера и по той же причине, что и побежденный (см. выше). 19. Потек – «пошел» – с [?э], а не с [?о] (потёк) ввиду рифмовки с человек. 20. Скалъь (см. выше о предложно-падежном сочетании на скалах). 21. Ледяный – «ледяной», с суффиксальным ударением, как дневное (сейчас – дневное). 22. Хлад – «холод», старославянское неполногласие, используемое как поэтическая вольность, дающая выигрыш в один слог. 23. Древес – «деревьев». Старая форма основы с суффиксом – ес– во множественном числе, подобная словам небес, чудес. В XVIII–XIX вв. является частой грамматической приметой поэтического языка. Употреблена здесь для рифмовки со словом небес. Мирные глаголы А теперь перенесемся в XX в. Среди замечательных русских поэтов XX в. С. Есенин занимает свое особое и очень почетное место. Настоящий сын русского народа, он стал подлинным народным художником слова, «всем существом поэта» искренне и страстно любившим и воспевавшим свою великую Родину, ее людей, природу, радости и заботы, «все, что душу облекает в плоть». Его чудесная лирика привлекала и привлекает читателей не только какой-то удивительно сердечной трепетностью и теплотой, беззащитной душевной широтой и открытостью, но и своим специфически есенинским – душистым и многоцветным – «песенным словом». А как справедливо говорил сам поэт: «миру нужно песенное, нежностью пропитанное слово». Было бы, однако, глубоко ошибочным думать, что неповторимые стихи Есенина – поскольку они «все на русском языке» (А. Твардовский) – одинаково близки и понятны нам (даже в «плане выражения», не говоря уже об идейном содержании).  Поэтическая речь С. Есенина как особое эстетическое явление представляет собой совершенно уникальный сплав самых разнородных языковых средств. «Сумасшедшее сердце поэта», который для людей всегда был «рад и счастлив душу вынуть», слило в ней в одно единое художественное целое «кипение и шорох» самых различных «словесных рек». Говор родной рязанской деревни и образная система русского устного народного творчества у С. Есенина мирно соседствуют с языком и стилистикой русской поэтической классики (включая традиционно-поэтическую лексику и фразеологию). В таком феномене его стихотворного творчества сказались как крестьянское происхождение и семейное воспитание, так и соответствующие литературная школа, влияние и пристрастия. Именно поэтому в художественной резьбе и вязи есенинской поэзии читатель нашего бурного времени встретит немало чуждого и чужого, неясного, трудного для правильного понимания и адекватного восприятия как в самом языке – строительном материале речевого произведения, так и в образной системе. «Мирные глаголы» стихотворений и поэм С. Есенина зачастую оказываются уже воинственно непонятными, антикоммуникативными, что заставляет пристально разглядывать их через лингвистическое увеличительное стекло, осторожно взвешивать на весах своей читательской памяти, а в ряде случаев и просто прибегать к помощи соответствующих комментариев. В связи с этим стихи С. Есенина, как, естественно, и всякие другие, требуют к себе бережного отношения, внимательного и размеренного чтения, иначе многое в нашем читательском сознании останется «за кадром», будет размыто, неясно и даже неправильно понято. И хотя поэт в определенном плане был прав, когда писал о том, что «Лицом к лицу лица не увидать. Большое видится на расстоянье», истинное лицо многих слов, строчек, отрывков и целых стихотворных произведений мы видим в их настоящем свете только тогда, когда «сталкиваемся» с ними «лицом к лицу». Один пример – заглавное словосочетание мирные глаголы. У С. Есенина оно встречается в отрывке из неоконченной поэмы «Гуляй-поле»: Россия! Сердцу милый край! Нам ясно, что речь здесь идет не о глаголах вроде не жалею, не зову, не плачу, а о существительном глагол в его старом значении – «слово», отложившемся в глаголе разглагольствовать. Это нам сразу же подсказывают хорошо знакомые строчки А. С.Пушкина «Глаголом жги сердца людей» и «Когда божественный глагол До слуха четкого коснется». И не случайно. Ведь в последней краткой автобиографии «О себе» в октябре 1925 г. С. Есенин писал: «В смысле формального развития теперь меня тянет все больше к Пушкину». Элементы традиционно-поэтического словаря, характерные для произведения Пушкина, его образы наблюдаются у Есенина очень часто. В процитированных строчках таким фактом, в частности, является традиционно-поэтическое долы, рифмующееся с глаголы (ср. у Пушкина: «В безмолвной тишине почили дол и рощи, Звенит промерзлый дол» и т. д.). Слово глагол в устарелом значении «слово» встречается у С. Есенина неоднократно. Так, например, в паре с тем же существительным дол оно звучит и в стихотворении «Душа грустит о небесах…»: Понятен мне земли глагол, Приведенный только что пример, кстати, ближе к пушкинским. И не только в грамматическом плане, но и в смысловом. Ведь слово глагол, такое частое в русской поэтической классике, употребляется в значении «слово» – «речь» и поэтому только в единственном числе (ср. у Г. Р.Державина: «Муза! таинственный глагол Оставь и возгреми трубою…»). Что касается отрывка из неоконченной поэмы «Гуляй-поле» С. Есенина, то в данном произведении поэт – и это надо обязательно видеть и учитывать – как бы возвращает слову глагол и его первозданный смысл («одно отдельно взятое слово»), и его соответствующие грамматические свойства употребляться во множественном числе. В результате со слова стирается оттенок торжественно-патетической поэтичности, и оно из божественного и таинственного глагола превращается под пером С. Есенина в простое человеческое слово, мирно живущее с самыми обыкновенными словами ямы, копыта, с одной стороны, и сердцу милый край, душа сжимается от боли – с другой. И определяющее его прилагательное мирные лишний раз это подчеркивает. От березового молока до плакучей лещуги Как самобытный поэт со своим ярким неповторимым художественным почерком С. Есенин полностью владел «тайнами соединения слов» (А. Грин). Именно этим приемом прежде всего создавалась его особая стилистическая манера письма, хотя он и не чуждался вовсе словообразовательных неологизмов (достаточно вспомнить хотя бы его излюбленные безаффиксные существительные женского рода типа березь, водь, хмарь, сырь, звень, цветь, омуть и т. д.). Но было бы ошибочным все встречающиеся в его стихах необычайные словосочетания ставить на одну доску. Многие из них действительно являются стилистически заданными «изобретениями» поэта, созданными как образные кусочки художественного целого на базе уже существовавшего в традиционно-поэтической и фольклорной речи материала. Именно они создают есенинское песенное слово во всех его формах и проявлениях, так похожее и так отличное от стихотворного почерка других. Приведем несколько примеров: Словно я весенней гулкой ранью проскакал на розовом коне («Не жалею, не зову, не плачу…»), В сердце ландыши вспыхнувших сил («Я по первому снегу бреду…»), Топи да болота, синий плат небес («Топи да болота…»), По пруду лебедем красным плавает тихий закат  («Вот оно, глупое счастье…»), Младенцем завернула заря луну в подол («О муза, друг мой гибкий…»), Догорит золотистым пламенем из телесного воска свеча («Я последний поэт деревни…»), Люблю, когда на деревах огонь зеленый шевелится («Душа грустит о небесах…»), Русь моя, деревянная Русь («Хулиган»), Заметался пожар голубой («Заметался пожар голубой…»), Отговорила роща золотая березовым, веселым языком («Отговорила роща золотая…») и т. д. С. Есенин прекрасно знал стихотворную классику и многие свои произведения создавал, опираясь и отталкиваясь от соответствующих мыслей, образов, слов старой доброй поэзии. Особенно много в его стихах мы находим отголосков творений Пушкина (ср. хотя бы стихотворения «Русь советская», «Отговорила роща золотая…», «Стансы», «О муза, друг мой гибкий…» и т. д.). В этой заметке хотелось бы обратить внимание на то, что рядом с есенинскими авторскими новообразованиями (они приводились) могут быть и наблюдаются такие словосочетания, которые – при всей для нас их необычности – являются для русского языка первой четверти XX в. самыми что ни на есть привычными и простыми. И путать их с есенинской поэтической новью никоим образом нельзя. Приведем пример: …Туда, где льется по равнинам березовое молоко. Здесь мы встречаем необычное сочетание слова березовое со словом молоко (мы знаем березовые дрова, в крайнем случае – березовую кашу – «порку»), но такого словесного ансамбля не знали. Это типичный для С. Есенина образ стоящих на равнинах березовых рощ, сравнение их с цветом молока. Вот перед нами стихотворение «В лунном кружеве украдкой…»: Разыгралась тройка-вьюга, Здесь мы наблюдаем совсем иное. Никакой экспрессивной нагрузки выделенное словосочетание не несет и вообще непонятно, пока не узнаем, что такое лещуга (прилагательное плакучая нам известно – «с длинными свисающими вниз ветвями растения, чаще всего деревья»). О том, что значит лещуга, а следовательно, и о значении словосочетания плакучая лещу-га можно узнать, только заглянув в «Словарь русских народных говоров» под ред. Ф. П. Филина и Ф. П. Сорокалетова (Л., 1981. С. 38). Там сказано, что лещуга обозначает в разных рязанских говорах чаще всего нерасчлененное название всяких травянистых (аир тростниковый, манник водный и др.) растений по берегам водоемов (лещуга – это «трава широкая, в два пальца»). Что позволено Ломоносову, не позволено Есенину Заглавие этой заметки не надо понимать буквально. Это вовсе не противопоставление нашего великого Ломоносова замечательному и любимому нами поэту Есенину. К стихотворному тексту обоих надо подходить одинаково объективно, с учетом исторической изменчивости и нормативности художественной речи. Конечно, что говорить, лирика Есенина нам несравненно ближе, чем оды Ломоносова. Но законы языка не позволено нарушать даже великим и любимым. А в разное время и в различных языковых ситуациях формально одни и те же языковые факты оказываются совершенно иными: то вполне возможными, то совершенно недопустимыми. Поэтому то, что извинительно для Ломоносова, вызывает наш протест у Есенина. И не потому, что мы подходим к ним с разными мерками, а потому, что «с фактами не спорят». Приведем пример, касающийся поэтической орфоэпии. И у Ломоносова, и у Есенина можно наблюдать одну и ту же рифмовку, когда слово с конечным звуком [х] рифмуется со словом, которое «оканчивается» на звук [к]. В полях кровавых Марс страшился, (М. Ломоносов) С пустых лощин дугою тощей (С. Есенин) В обоих четверостишиях в соответствии с точной рифмой (а оба поэта следовали ей) звук [г] в абсолютном конце слова произносится как [х]: глазах – флаг, мох – ног. И у Ломоносова, и у Есенина звук г на конце слова звучит не в лад с правилами современного русского литературного произношения (на месте конечного г законным и правильным является звук [к]). Но что не вызывает никаких возражений и упреков с нашей стороны у Ломоносова, то представляет собой нарушение орфоэпических норм и соответственно фонетическую ошибку у Есенина. Поистине оказывается, «что позволено Ломоносову, не позволено Есенину». Почему? Да потому, что для середины XVIII в. произношение звука г как [х] в высоком слоге, которым написана «Ода на день восшествия на всероссийский престол… Елисаветы Петровны, 1747 года», было нормой (ср. [?] в словах голос, голова, гордо в современных южно-русских говорах). Отсюда и рифмовка г – х: [?] закономерно «переходил» в конце слова в [х]. Здесь Ломоносов (ведь он был с севера!) в угоду высокому слогу «наступал на горло» своему родному северновелико-русскому произношению, по правилам которого, как и сейчас в литературном языке, г на конце слова произносилось как [к]. Рифмовка г – х для Ломоносова была, таким образом, обычным и необходимым соблюдением тогдашних «правил поэтической игры». С совершенно другим явлением встречаемся мы у Есенина. В его поэзии рифмовка г – х является простым, прямо-таки «зеркальным» отражением рязанского диалектного произношения. В рифменной связке мох – ног перед нами не мотивированный художественными задачами фонетический южновеликорусский диалектизм. Есенин совершает здесь явную ошибку, которую он делал постоянно. Так, он рифмует слова враг – облаках, страх – очаг, дух – друг, грех – снег, других – миг, орех – снег, порог – вздох, дух – круг, смех – снег и т. д. Случаи правильной орфоэпической пары у Есенина единичны и представляют собой исключение; такой, в частности, является рифмовка брег – век, взятая, вероятно, им из версификационного арсенала русской классики XIX в., где она встречается очень часто. Как свидетельствуют другие подобные факты (терпкий – закорки, грусть – Русь) и др., где терпкий звучит с [?о], грусть – без т), разобранная орфоэпическая ошибка в стихотворной практике Есенина – «родимое пятно» родного диалекта, бессознательное отступление от литературной нормы, не выполняющее никаких эстетических задач. Такая поэтическая вольность – слишком вольная! И все же давайте простим ее в «поющем слове» знаменитого лирика. Во-первых, потому, что фонетические диалектизмы – самые устойчивые и встречаются даже у людей, прекрасно владеющих русским языком (вспомним хотя бы, что М. Горький окал до конца своей жизни). Во-вторых, потому, что такую ошибку сплошь и рядом делают многие поэты и сейчас. В-третьих, она не мешает нам и понимать, и чувствовать красоту есенинского стиха. Шушун С этим не совсем понятным словом мы шапочно знакомы, конечно, по трогательному стихотворению С. Есенина «Письмо матери»: Пишут мне, что ты, тая тревогу,  На первый взгляд слово шушун (а обозначает оно, кстати, старинную верхнюю женскую одежду типа телогрейки, кофты) является у Есенина таким же диалектизмом, как наречие шибко – «очень». Но это не так. Слово это было давно широко известно в русской поэзии и ей не чуждо. Оно встречается уже, например, у Пушкина («Я ждал тебя; в вечерней тишине Являлась ты веселою старушкой, И надо мной сидела в шушуне, В больших очках и с резвою гремушкой»), шутливо описывающего свою музу. Не гнушался этим словом и такой изысканный стилист XX в., как Б. Пастернак. Так, в его небольшой поэме или большом стихотворении «Вакханалии», написанном в 1957 г., о существительное шушун мы «спотыкаемся» сразу же в его втором четверостишии (старух шушуны). Поэт и пиит В произведениях С. Есенина – в зависимости от их темы и жанра – мы находим причудливое слияние фактов живой разговорной речи (не исключая большую струю диалектизмов) с явлениями традиционно-поэтического языка пушкинской эпохи, в частности даже прямое использование образов и строительного материала самого Пушкина. Например, Пушкин явственно слышится у С. Есенина в стихотворении «Издатель славный. В этой книге…», где им используется пушкинская строка из «Медного всадника» (ср.: «Коммуной вздыбленную Русь» (Есенин) и «Россию поднял на дыбы» (Пушкин). Заметим, что подобное обращение к русской классике встречается и у В. Маяковского, ср.: «Но как испепеляюще слов этих жжение» (Маяковский) и «Глаголом жги сердца людей» (Пушкин), «В наших жилах кровь, а не водица» (Маяковский) и «Понять меня, я знаю, вам легко, ведь в ваших жилах – кровь, не молоко» (Лермонтов) и т. д. Это обстоятельство следует отметить особо, поскольку оно свидетельствует о прекрасном литературном образовании поэта. А ведь долго бытовало мнение о том, что стихи С. Есенина не имели прямой, непосредственной связи с литературой. Между тем в произведениях поэта немало и элегических, и одических слов русской поэзии первой четверти XIX в., и поэтических вольностей. В его стихах являются нередкими слова и обороты типа: певец – «поэт», Пегас, куща, сень – «тень», час – «время», муза, длани – «ладони», багрец, лик – «лицо», уста – «губы», о други игрищ и забав, лазурь, врата – «ворота», бег светил, час прощальный, персты – «пальцы», пригвождены, ко древу, вежды, нежить, брега – «берега», дщерь, златиться, узреть – «увидеть», бразды – «борозды», дол – долина, нощь («Нощь и поле, и крик петухов…»), ладья – «лодка», сонм прободающие – «пронзающие», твердь, упование, страж – «сторож», нетленные, очи, кровля, сие, худые телеса, выя – «шея» (слова шея и выя употребляются поэтом рядом в стихотворении «Мир таинственный, мир мой древний…») и т. д. В его произведениях мы встречаемся и с различными версификационно обусловленными поэтическими вольностями, дающими выигрыш в размере или рифмовке. В качестве таких можно указать полногласные и неполногласные формы, например: берег – брег, середина – среда, ворог – враг, голос – глас (ср.: «На золотой повети гнездится вешний гром», и чуть далее «На нивы златые пролей волоса» в «Октиохе», «Протянусь до незримого города…», и чуть ниже «Обещаю вам град Инонию» в «Инонии» и т. д.), вокализованную форму глагола возлететь («Суждено мне изначально возлететь в ночную тьму…» в стихотворении «Там, где вечно дремлет тайна…»), формы крыл, плечьми, облак, произношение е в звездный и звездами, нощь вместо ночь и т. д. Но за мир твой, с выси звездной, («Там, где вечно дремлет тайна…») Звездами золотые копытца («Инония») К таким же фактам поэтических вольностей XX в. относится употребление С. Есениным и пары поэт и пиит. Разбуди меня завтра рано, («Разбуди меня завтра рано…») В «Руси советской» мы встречаем, с одной стороны, форму пиит: И это я! А с другой стороны, форму поэт: Но и тогда, Никакой добавочной стилистической окраски, «шутливости или иронии», которая – по 4-томному «Словарю русского языка» (под ред. А. П. Евгеньевой. М., 1984) – свойственна слову пиит, рифмующемуся в приведенном отрывке со словом знаменит, в тексте из «Руси советской» нет. Слово пиит здесь чисто версификационно. Вполне возможно, что его появление в «произведении» навеяно пушкинским словоупотреблением «И славен буду я, доколь в подлунном мире Жив будет хоть один пиит» из его исповеди-завещания «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…». Ведь и С. Есенин говорит, если выражаться словами В. Маяковского, о «месте поэта в рабочем строю»: …быть поэтом – это значит то же, Корогод Есть у С. Есенина чудесное стихотворение «Гой ты, Русь моя родная…», написанное им еще в 191 4 г. с характерной и постоянной для него мыслью: «Не надо рая, дайте родину мою». В этой жанрово-психологической миниатюре просто нельзя пройти мимо слова корогод: И гудит за корогодом Без его правильного понимания читатель не может себе представить конкретной картины, нарисованной поэтом. Оно властно требует комментария, поскольку мы не очень понимаем, где гудит «веселый пляс». В книге С. Есенина «Стихи и поэмы» школьной библиотеки (М., 1974. С. 13) составитель в сноске толкует существительное корогод следующим образом: «Корогод – искаженное от хоровод». Да, действительно, это слово надо объяснить современному читателю, но точнее. Скажем обо всем по порядку. Корогод толкуется как искаженное от хоровод. Не кажутся ли в таком случае вам более чем странными цитируемые есенинские слова: на лугах гудит веселый пляс за… пением и плясками (!). Ведь хоровод – название древней славянской игры, участники которой идут по кругу с пением и плясками (ср.: Хорошо в лугу широком кругом В хороводе пламенном пройти – А.Блок. «Май жестокий с белыми ночами…»). Итак, не вдаваясь здесь в трудные вопросы происхождения слова корогод (нам оно вовсе не представляется искажением существительного хоровод), сделаем только следующий из логики слов вывод: предложно-падежная форма за корогодом у поэта имеет здесь совсем другое значение, нежели «за хороводом». И это значение, несомненно, пространственное, такое же, каким оно является у предложно-падежного сочетания на лугах. Где же гудит веселый пляс? На лугах, за корогодом, т. е. за порядком – «за домами, образующими улицу» (см.: Даль В. Толковый словарь…, где отмечается и значение «порядок» у слова корогод и объясняется слово порядок как «ряд домов, составляющих одну из противоположных сторон улицы деревни или села»).  Гравюра художника С.Харламова к стихотворению С. Есенина. 1994 г. Теперь все в порядке. Наши затруднения связаны с использованием здесь этого слова. О странной строчке из поэмы С. Есенина «Анна Снегина» Если иметь в виду наше современное языковое сознание и актуальное для нашего времени словоупотребление, то течь может жидкость (вода, кровь, сок и т. п. течет), время (время текло быстро, жизнь текла размеренно и т. п.) и предмет, который прохудился (крыша, лодка, ведро и пр. течет). Таким образом, современными значениями глагола течь являются значения «течь, литься» (о жидкости), «идти, проходить» (о времени) и «протекать, пропускать жидкость» (о прохудившемся предмете). Но приходилось ли вам обращать внимание на глагол течь в поэме С. Есенина «Анна Снегина» (1925)? Он используется здесь поэтом (как и слово оладья) несколько необычно: Ну что же! Вставай, Сергуша! Необычность употребления существительного оладья в родительном падеже множественного числа в диалектной форме оладьев, а не в литературной – оладий и замечается быстрее, и объясняется проще: ведь перед нами прямая речь мельника, носителя соответствующего народного говора. Особый характер глагола течь чувствуется слабее, хотя стилистически он играет явно ту же самую характерологическую роль и вводится поэтом для воссоздания народной речи. Смысл строчки Еще и заря не текла ясен, ее можно перевести сочетанием «еще на рассвете» или «еще до восхода солнца» (ср.: ни свет ни заря). Но вот в каком значении употреблен здесь глагол течь – не совсем понятно. Ведь слово заря в своем прямом значении и не предмет, который может прохудиться, и не жидкость, и не время. Это, как определяют словари, «яркое освещение горизонта перед восходом или заходом солнца». Впрочем – стоп! В переносном значении, как это четко и определенно отмечается еще В.Далем, слово заря значит и «время освещения от солнца, находящегося под небосклоном», т. е. время восхода или захода солнца. Значит, перед нами не нарушение литературной нормы, не поэтическая вольность, а закономерное проявление глаголом течь общеязыкового значения «идти, проходить» (о времени), хотя и своеобразное, поскольку он сцепляется со словом заря не в первичном его смысле, а в переносном. Есенинское употребление слова течь, как видим, спокойно укладывается в прокрустово ложе современных семантических законов. А вот обратившись к классической поэзии первой половины XIX в., мы найдем и такое использование глагола течь, которое с семантико-синтаксической точки зрения будет уже архаичным, устарелым. Ведь в XIX в. у поэтов мог течь и… человек, а не только жидкость, время и прохудившийся предмет. Сцепляясь с существительным, обозначающим человека, глагол течь имел временное значение «идти, проходить; быстро идти; бежать, нестись». Вспомним, как писал, например, Пушкин: Смотря на путь, оставленный навек, — («Князю А. М. Горчакову») (ср. у него же современные временные связи и семантику: «И многие годы над ними протекли…» («Подражания Корану»); «Но полно: мрачная година протекла…» («Второе послание к цензору»). Протек в значении «прошел»); Но человека человек («Анчар» ) И мнится, очередь за мной, («Чем чаще празднует лицей…») Словесные связи глагола течь «идти, проходить» с обозначениями человека, так часто наблюдаемые в поэзии первой половины XIX в., восходят к старому – еще церковнославянскому – источнику: Петръ, въставъ, тече къ гробу – «Петр, встав, пошел к могиле» («Мстиславово евангелие», до 1117 г.), тогда Влурь влъком потече – «Тогда Влур волком побежал» («Слово о полку Игореве») и т. д. Последнй пример косвенно свидетельствует, что течь (уже со значением «бежать, нестись») могли и животные, ср. у Даля – белка течет. Живой и актуальной эта семантика сохранилась до сих пор у просторечных глаголов того же корня: приставочного утечь и «перегласовочного» (очевидно, заимствованного из украинского языка) тикать. О существительном обилие во множественном числе В поэме С. Есенина «Анна Снегина» мы в самом ее начале натыкаемся (в речи возницы, везущего героя в Радово) на существительное обилие… во множественном числе: Но люди – все грешные души,  Гравюра художника С. Харламова к стихотворению С. Есенина. 1994 г. В современном русском литературном языке слово обилие имеет значение «множество, богатство» и в соответствии с этим употребляется, как и другие подобные ему абстрактные существительные (бездна, пропасть в количественном значении «много», энтузиазм, мудрость, слава и т. д.), только в единственном числе. Чем и как объясняется здесь эта ненормативная, чуждая литературной речи грамматическая форма? Может быть, она обусловлена какими-то стилистическими задачами, в частности речевой характеристикой персонажа, и носит тем самым такой же художественно оправданный характер, как в том же монологе, только немного ранее слова почитай (= «почти»: «Дворов, почитай, два ста»), неуряды (= «напасти»: «С тех пор и у нас неуряды») и форма два ста (= «двести»)? Ответить на это можно однозначно и утвердительно. В таком случае – почему именно оно и именно во множественном числе? Ларчик открывается довольно просто: слово обилие употребляется здесь С. Есениным не в его литературном значении (слову со значением «множество, богатство» множественное число просто не нужно), а в диалектном значении – «урожай». Это значение слова обилие идет из древнерусского языка: Поби мраз обилие по волости («I Новгородская летопись»). Таковы скудно изложенные, но вполне достаточные сведения о слове обилие, устанавливающие полный контакт и взаимопонимание между читателем и поэтом. Таинственное словосочетание Когда я читаю стихотворение С. Есенина «О товарищах веселых…», какое-то особенно светлое и теплое, каждый раз меня охватывают совершенно невеселые мысли. Однако вовсе не от задушевного и грустного есенинского произведения, а по совсем другим, «внелитературным», основаниям. Ведь как это ни может показаться странным, ни в одном издании поэта – большом и малом – ни один есениновед не только не объяснял, но даже и не касался одного совершенно непонятного и темного восьмистишия, без толкования которого пейзажная зарисовка наступающей зимы кажется если не простым набором, то странной композицией удивительных в своих сочетаниях и самих по себе слов. И дело здесь не только в своеобразности перифразы (т. е. описательного наименования) первой строчки восьмистишия («Ловит память тонким клювом…» = «вспоминаю»). И не столько в имеющихся здесь диалектизмах (о них я расскажу ниже). Больше всего языкового «шума и помех» содержится в словосочетании третьей строки второго четверостишия – парагуш квелый. Но приведем соответствующий отрывок: Ловит память тонким клювом Память и интуиция (а в крайнем случае словари, например словарь В. И. Даля) легко подскажут вам, что в санках озера значит «по краям озера» (буквально – «в скулах озера»), люлька – «трубка», а на излуке – «на излучине, на изгибе». Но вот что такое парагуш квелый, будет (и есть даже для специалистов) поистине тем, что принято называть фразеологизмом «темна вода во облацех». И причиной этому примечательному факту прежде всего… простая опечатка (!), кочующая из издания в издание: вместо нужной буквы к в слове карагуш неизменно печатается буква п. Ну а зная это, легко будет уже разгадать «таинственное» сочетание. Карагуш квелый – это терминологическое, но широко известное обозначение птицы, которую мы иначе называем подорликом. Оно точно соответствует латинскому прототипу Aquila clanga (Aquila – «орел», clanga – «кричащая, клекочущая, каркающая», от глагола clango). Здесь, как и во многих других случаях, нас выручает В. И. Даль. В его «Толковом словаре…» находим: «карагуш – вид небольшого орла, татарский орел, Aquila clanga; квелить – писклявить, плакать, жалобиться, хныкать». Указываемое В. Далем значение «татарский орел», несомненно, представляет толкование, отражающее не реальное значение слова карагуш – «небольшой орел, подорлик», а его этимологическое объяснение. Слово каракош – «небольшой орел» является в русском языке заимствованным из татарского, где оно буквально значит «черная птица» (кара – «черная», кош – «птица»). Однако разгадка словосочетания карагуш квелый еще не конец нашим поистине детективным поискам художественной истины отрывка. Ведь странным выглядит и само это терминологическое обозначение подорлика в соседстве с глаголом курит: птицы не курят. Расшифровывать надо и это. Дело здесь в особой стилистической манере С. Есенина, в специфическом образно-метафорическом употреблении поэтом (а таких фактов у него хоть отбавляй) слов, нам уже в прямом значении известных. Поэт использует скрытое сравнение. Подорлик у него, как курящие старики на завалинке, отдыхает на излучине «тихих вод» (обратите внимание на инверсию и дистанционное расположение слов тихих вод… на излуке, восходящее к поэтическим вольностям, известным в стихотворном синтаксисе со времени их появления в XVIII в.). Вот, как видим, какой запутанной и сложной оказывается иногда словесно-художественная вязь, казалось бы, у одного из самых простых и доступных поэтов. В наших жилах – кровь, а не водица «Угловатые и аритмичные стихотворные произведения В. Маяковского, одного из самых оригинальных и талантливых поэтов XX в., с их версификационной лесенкой и «рубленностью», заражают и поражают тем не менее каждого способного читать и думать своей неподкупной искренностью содержания, страстностью, высоким и душевным лиризмом, удивительной афористичностью выражения. Последнее обусловило тот несомненный факт, что многие его поэтические строчки стали афоризмами и неотъемлемой принадлежностью нашего повседневного языка. Крылатые слова В. Маяковского, разные по своей структуре и содержанию, постоянно используются нами в речи, наряду с готовыми словами и фразеологизмами, как наши собственные выражения. В этом отношении фразеологическим новообразованиям поэта повезло значительно больше, чем его словным словообразовательным неологизмам. Если из последних в наш язык прочно вошло одно лишь прозаседавшиеся, а остальные так и остались прикрепленными к определенному контексту, то крылатые слова В. Маяковского сосчитать трудно. На каждом шагу мы употребляем его крылатые выражения: Отечество славлю, которое есть, но трижды – которое будет; мне бы жить и жить, сквозь годы мчась; во весь голос; моя милиция меня бережет; становясь на горло собственной песне; товарищ жизнь; мне и рубля не накопили строчки; слово – полководец человечьей мысли; и жизнь хороша, и жить хорошо; вся поэзия – езда в незнакомое; что такое хорошо и что такое плохо и т. д. К числу крылатых принадлежат и слова, которые составляют заглавие настоящей заметки, сразу воскрешающие в нашей памяти одно из самых замечательных стихотворений В. Маяковского «Товарищу Нетте – пароходу и человеку»: В наших жилах — В них нет ничего для нас неясного, и может остановить в них нас (и то, если мы начнем этот фразеологизм анализировать) только слово водица (вместо пресного и сухого существительного вода). Это производное от вода слово у Маяковского не является ласкательным образованием, как оно объясняется в словарях. Суффикс– иц(а) указывает в слове водица на то, что речь идет о воде еще более жидкой, чем вода как таковая (ср. каша и кашица – «жидкая каша», кожа и кожица – «тонкая кожа» и др.). И употребил поэт слово водица поэтому не случайно: контекстуальная антонимичность сопоставляемых слов в паре кровь – водица значительно сильнее и глубже. Кроме того, совершенно несомненно и то, что слово водица в процессе работы над стихотворением подсказывал поэту и избранный классический ритм стихотворения, и рифма (водица – воплотиться). Но при полной языковой ясности этот афоризм поднимает и еще один вопрос, если его уж рассматривать под лингвистическим микроскопом. В какой степени он является инновацией В. Маяковского? И здесь, может, следует сказать, что этот фразеологический неологизм поэта – обобщение и концентрация того, что в русской художественной литературе и повседневной русской речи уже было. Это, конечно, нисколько не умаляет в данном случае роли поэта в огранке слова (вспомните народную пословицу Виноватого кровь – вода). Восстановите в своей памяти отрывок разговора братьев Кирсановых после дуэли Павла Петровича с Базаровым:
Если же вы заглянете в поэму «Сашка» М. Ю. Лермонтова, то можете прочитать три следующие строчки: Понять меня, я знаю, вам легко, (ср. народное кровь с молоком). Жизнь этого образа и крылатых слов В. Маяковского продолжается. Достаточно назвать роман М. А. Стельмаха «Кровь людская – не водица», где заглавие приобретает обобщенное переносно-метафорическое значение, аналогичное тому, что характерно для слов и словосочетаний мертвые души, дым, накануне, обрыв и в соответствующих произведениях Гоголя, Тургенева и Гончарова. Решите сами Куда ведут клипсы-лапки…  «Сердечный контакт» В. Маяковского с читателями, если несколько перефразировать слова поэта А. Суркова, делает «каждое открыто и откровенно гражданское по проблематике стихотворение поэта лирическим признанием». Маяковский – совершенно современный поэт по своей тематике и пафосу, но прошло уже более 70 лет с тех пор, как он ушел из жизни. Этим обстоятельством, наряду, конечно, с его неологизмами и элементами традиционной поэзии, и объясняются имеющиеся в его произведениях языковые шумы и помехи, порождающие приблизительное понимание нами его художественного текста. Тот сердечный контакт с поэтом, о котором говорит А. Сурков, может, однако, выступать для нас иногда весьма опосредованным и даже нарушаться. Надежная защита от этого – замедленное и вникающее, внимательное и бережное чтение произведений В. Маяковского. Попробуйте сами найти трудные, темные слова и определить их значение в приводимых далее отрывках. Ответы, как всегда, будут даны после. 1. Я с теми, («Хорошо!») 2. Мне бы жить и жить, («Товарищу Нетте – пароходу и человеку») 3. Бумажное тело сначала толстело. («Бюрократиада») 4. По всей округе — («О поэтах») 5. Посудите: («О поэтах») 6. Например («Юбилейное») 7. Что ж о современниках? (Там же) 8. Потомки, («Во весь голос») (Далее поэт приводит примеры слов.) А сейчас проверьте себя 1. В этих афористических – гордых и оптимистических строках нет как будто ничего «не нашего». Однако если иметь в виду кодифицированную литературную речь, то у Маяковского наблюдается здесь явное отступление в просторечие. По грамматическим нормам современного литературного языка в глаголе на – ти (после согласного основы) ударный и не отпадает (ср. мести, нести, ползти, брести, блюсти, грести и т. д.). Маяковский в разбираемом отрывке обращается к просторечной форме для рифмы: месть – есть. 2. Здесь нас должны остановить или, вернее, останавливают два факта: рифмовка мчась – час и фразеологизм смертный час. Рифмовка мчась – час указывает на твердый с в слове мчась. Мы так уже не говорим, но это не ошибка. Во времена Маяковского такое так называемое старомосковское произношение было нормой. Оборот смертный час в значении «время умирать» обращает на себя внимание из-за старого значения слова час – «время» (ср. час пробил – «время настало»; иное в выражении через час по чайной ложке, возникшем из врачебной прописи на рецепте). Вспомните пушкинские строки «Калигулы последний час Он видит живо пред глазами» («Вольность»); «Мы все сойдем под вечны своды И чей-нибудь уж близок час» («Брожу ли я вдоль улиц шумных…»). 3. Здесь может быть непонятным слово клипсы-лапки, неологизм Маяковского, представляющий собой сложение синонимов клипсы и лапки, аналогичное словам стежки-дорожки, друг-приятель и т. п. Это сложение употреблено совершенно не в «нашем», несовременном значении – «конторская скрепка», «держатель». Слово клипсы в таком значении заимствовано из немецкого языка. В настоящее же время существительное клипсы значит по 4-томному академическому «Словарю русского языка» – «серьги, прикрепляемые к мочке уха без прокалывания». Оно пришло к нам либо из немецкого, либо из английского языка. 4. Здесь в первом отрывке Маяковский иронически, в переработанном виде использует пушкинское выражение из стихотворения «Пророк» «Глаголом жечь сердца людей», в котором существительное глагол, как и в тексте Маяковского, значит «слово». Слово жечь в целях создания комического эффекта употреблено сначала в прямом, свободном значении («Прожег! И сердце, и даже бок»), а затем в переносном, уже в связанном значении в составе фразеологизма сгореть от стыда. Вероятно, не представляет затруднений выражение денно и нощно «днем и ночью, постоянно» со старославянской огласовкой нощь, а не ночь в составе наречия нощно. 5. В этом отрывке трудностей в понимании у вас, очевидно, не возникло. Однако он тоже требует комментирования. Ведь в нем содержится ненормированная форма полегше (вместо правильного полегче) и неологизм Маяковского зарифмоплесть – «зарифмовать». Оба эти факта стилистически оправданы и используются Маяковским в тех же целях создания комического. Заметим, что иными – чисто версификационными – причинами (чтобы срифмовать со словом калекши) определено наличие легше в стихотворении «Сергею Есенину»: «…но скажите вы, калеки и калекши, где, когда, какой великий выбирал путь, чтобы протоптанней и легше?» Отметим также, что у Маяковского глагол зарифмоплесть как приставочное образование от рифмоплесть восходит к традиционно-поэтическому рифмоплет, частотному в первой половине XIX в. (ср. также у Пушкина иронически-насмешливое рифмач, рифмодей, рифмотвор). В этих строчках в чисто языковом плане понятно все, однако все же требуется небольшой лингвострановедческий комментарий слов Сосновский и «Ундервуд». Чтобы понять соответствующее место, надо знать, что Л. С. Сосновский – журналист, выступавший против поэтики Маяковского, а «Ундервуд» – пишущая машинка системы «Ундервуд» (ср. современное «Эрика»). 6. В приведенном отрывке из «Юбилейного», где Маяковский выступает против неблагозвучных и трудных для понимания сложносокращенных слов, которых в 20-е гг. было значительно больше, чем сейчас, требует толкования не только само незнакомое существительное Коопсах. Оно значит в переводе на простой русский язык «кооперация сахарной промышленности». Тут надо вспомнить прежде всего древнюю историю вавилонского (или халдейского) царя Навуходоносора II, при котором Вавилония достигла наивысшего экономического и культурного расцвета. Однако не только это. Чтобы понять сочетание слов сине-мордое, в оранжевых усах, т. е. что сравнивается поэтом с «портретом» вавилонского царя, необходимо иметь в виду, что речь идет о рекламном плакате Коопсах?а, изображенном на синем фоне с расходящимися оранжевыми лучами. Почему Маяковский вспомнил здесь именно это сложносокращенное слово? Вполне закономерно, так как рекламный плакат Коопсах?а находился недалеко от памятника Пушкину на Страстной (ныне Пушкинской) площади. 7. В этой лесенке нуждается в особенном внимании слово однаробразный. Оно является оригинальным новообразованием поэта очень своеобразным путем – контаминацией двух слов однообразный и наробраз (сложносокращенное существительное того времени, возникшее на базе словосочетания народное образование). 8. В приводимых двух строчках привлекает внимание словосочетание выплывут из Леты, представляющее у Маяковского отголосок поэтической фразеологии первой половины XIX в. Оно значит «вспомнятся» и построено как антоним частого у Пушкина и других поэтов выражений потонет, поглотит и т. д. Лета. Вспомните из «Евгения Онегина»: «И память юного поэта Поглотит медленная Лета»; «…И сохраненная судьбой Быть может в Лете не потонет Строфа, слагаемая мной» (= «не забудется»). Лета – мифологическое название древними греками реки забвения, выступающее у русских классиков XIX в. как символ забвения – в словоупотреблении Маяковского конкретизируется (поплавки словарей, остатки слов). Решите сами В плену поэтических строк Б. Л. Пастернака  Стихотворный почерк еще одного поэта XX в. Б. Л. Пастернака на редкость своеобразен и специфичен. Неожиданные метафоры и сравнения; ошеломляющие своей резкой ненормативностью и непривычностью «счастливые сочетания слов»; разноцветная и разноликая палитра эпитетики; стремительные потоки внезапных анафор и синонимов; разнообразные по форме и содержанию сцепления антонимов в изумляющих своей выразительностью антитезах и оксюморонах; на первый взгляд, беспорядочный и вечноспешащий (иногда как бы «задыхающийся») синтаксис – основные слагаемые особого поэтического слога поэта. Некоторым он кажется не только читательски трудным, но и авторски искусственным. Но последнее архинеправильно. Все в стихах Пастернака «диктовало чувство», было от его чистой души и открытого сердца, хотя, конечно, и не представляло «случайный навзрыд»: «стихи слагались» поэтической личностью, с ее жизненным опытом, литературным образованием и художественным восприятием постоянно меняющегося мира. Нарочитая «филологичность» стихотворного текста прихотливо уживается у поэта с естественной раскованностью и широтой его индивидуального художественного зрения и социального видения мира. Если говорить о зрелом и тем более позднем периоде его творчества, то в нем все больше и больше проступает та «неслыханная простота», которая идет от «опыта больших поэтов», нашей неувядаемой русской поэтической классики. Об этом прекрасно сказал сам Б. Л. Пастернак: В родстве со всем, что есть, уверясь И тем не менее в его стихотворном языке есть над чем задуматься, есть что не увидеть, а значит, есть о чем вас спросить. Вот вам еще одно проверочное задание. Выполните его, как и предыдущие, сначала самостоятельно. Затем можете обратиться к ключу, чтобы узнать, насколько успешно вы этот маленький экзамен выдержали. Найдите в следующих далее четверостишиях имеющиеся в них художественно-изобразительные средства: анафоры (повторения начальных элементов), сознательные тавтологии (избыточность), сравнения, афористичность, антитезы, оксюмороны, омонимы и т. д. 1 Не волнуйся, не плачь, не труди, 2. Красавица моя, вся стать, 3. Он жаждал воли и покоя, 4. И должен ни единой долькой 5. Не спи, не спи, художник, 6. Не потрясенья и перевороты 7. На протяженьи многих зим Посмотрим теперь ответы, чтобы убедиться, что заданные вопросы успешно решены 1. В приведенных строках выразительная сила стиха достигается прежде всего четырехкратным анафорическим отрицанием не, анафорическим трехкратием местоимения ты и сравнительного как, а также своеобразным рядом сравнений с неожиданны и аналогичны «синоним о» к слова опора, друг, случай. 2. В данном четверостишии особо останавливает внимание повсестрочное употребление «всеобъемлющего» местоимения вся, омоформы стать (существительное) и стать (глагол), синоним ия стать – суть и возвратные глаголы рвется и просится. 3. В строках явно проглядывают реминисценции из Лермонтова (я ищу свободы и покоя) и Маяковского (я родился, рос, кормили соскою. Жил, работал, стал староват. Так и жизнь пройдет, как прошли Азорские острова). Ярким и свежи является переносно– метафорическое употребление глагола горбиться. 4. Очень сильным в художественном отношении в данном отрывке, выступающим как настоятельный завет всякому настоящему человеку, является категоричность долженствования, создаваемая тавтологией прилагательного живой и усилительной частицей только и оканчивающим заключительную строчку предложно-падежным сочетанием до конца. 5. Особенно важными в создании удивительной отточенности поэтического фрагмента являются троекратное повторение повелительной семантики «бодрствуй» (не спи, не спи, не предавайся сну) с развертыванием не спи во второй строке в перифразу и оживлением в ней у слова предавайся значения, связанного с глаголом предать, и конечно же афористичность двух заключительных строк. 6. Четверостишие строится на антитезе мировоззренческого характера двух первых строк заключительным. Выразительности отрывка особо служат яркое противопоставление (не – а), синонимы первой строки и инверсивность порядка слов четвертой. 7. Отрывок в основном строится на оксюморонном характере двух заключительных строк, образующемся сознательным «столкновением» слов неповторим и повторялся. |
|
||
