|
||||
|
|
Часть 1 ПРЕДМЕТ И МЕТОД Глава 1. Телеология — или о том, зачем нужна теория элит Советская элита… Ее функциональная специфика, структура, системные свойства, принципы функционирования в социуме… Ее генезис, самовоспроизводство… Степень ее вписанности в мировые элиты… Мог ли кто-то обсуждать в СССР такую тему, например, в 70-е годы XX века? Любой, кто жил в советском обществе, а также тот, кто хоть как-то ознакомился с феноменом советского общества по серьезной литературе, должен будет признать, что эту тему в указанный период официально обсуждать было нельзя. Потому что официальная идеология предъявляла образ советского общества, в котором элиты нет и не может быть. А есть, напротив, нечто несовместимое с феноменом элиты. Что же именно? В крайнем случае речь шла об антиэлитарности. То есть о руководящей роли социальных низов (рабочего класса и вступившего с ним в союз трудового крестьянства). Тот крайний случай был к концу 70-х годов аккуратно превращен в нечто более умеренное и еще менее вразумительное. В какое-то «общенародное государство». Но подобная трансформация лишь заменила антиэлитарность («не элита, а низы — соль земли!») внеэлитарностью («есть социально однородное общество и нечего говорить об элитах!»). Итак, ни раннесоветская (категорическая и потому в чем-то все-таки внятная), ни позднесоветская (уклончивая и абсолютно невнятная) доктринальность не предполагали наличия элиты в советском обществе. Но как вы можете обсуждать любой феномен (в том числе и феномен элиты) в условиях, когда официальная доктрина отрицает наличие подобного феномена? Только подрывая официальную доктрину! И это при том, что подрыв доктрины в обществе советского типа фактически равносилен подрыву власти. Назовите советское общество закрытым или идеоцентрическим… В любом случае, это общество, в котором правит одна партия. И правит она в силу наличия у нее определенной идеологии. Идеология отрицает наличие элиты. Вы начинаете обсуждать элиту… Подкоп под власть налицо. Это не специальный советский маразм, как кажется многим. Это неизымаемое функциональное свойство определенных систем. Церковная доктрина санкционировала любые обсуждения системы Птолемея. Но она не позволяла подкапываться под эту систему какому-то Галилею. Потому что такой подкоп под частную (астрономическую) систему грозил всей идеологической доктрине. А значит, и порожденному доктриной регламенту. А поскольку на регламенте держится власть, то и власти. Если кто-то считает, что этот казус преодолен открытыми демократическими обществами, то он глубоко заблуждается. Там есть свои табу, свои системные запреты, свои принципы превращения иномышления в инакомыслие, а инакомыслия в ересь. Итак, начав в СССР в 70-е годы говорить о советской элите, вы становились инакомыслящим. То есть опасным еретиком. То есть врагом. А как только вы становились врагом, с вами надо было бороться. А как можно с вами бороться? Загнав вас в глубокое внутреннее подполье и лишив возможности излагать свою позицию публично. Предположим, что вы с этим не соглашаетесь. И пробуете обсудить такую позицию публично. Вы создаете кружок… Что он обсуждает? Тексты — а что еще? В противном случае, он толчет воду в ступе. Что и так делают все на партсобраниях. Вы написали текст и ознакомили с ним членов кружка. Потом члены кружка, возражая вам, написали ответный текст. Еще один шаг — даже не шаг, а шажок — и вы становитесь диссидентом. Например, вы напечатали тексты на машинке и собрали их вместе. Получился журнал. Вы начали знакомить с ним друзей. Всё! Вами сразу же начинают интересоваться «компетентные органы». И тут все зависит от того, как эти органы себя поведут. Есть несколько возможных сценариев их поведения. Сценарий № 1. Они начнут вас мягко опекать. Посадят в какой-нибудь закрытый институт (или закрытый отдел какого-нибудь открытого института), где вы худо-бедно будете что-то писать на интересующую вас тему, но для органов. Это очень удачный случай! Прямо скажем, невероятно удачный. Сценарий № 2. Органы начнут вас опекать иным способом. Попросту они вас завербуют. И тогда все, что вы пишете и говорите, это не суть вашей деятельности, а предлог для выявления политически неблагонадежных лиц, решивших присоединиться к вашему начинанию. Что? Вы честный человек? Вам это претит и вы отказываетесь? Тогда реализуется еще более жесткий сценарий. Сценарий № 3. Вас сажают в тюрьму или психушку. Есть еще сценарии? Есть. Сценарий № 4. Вас вынуждают уехать за границу. С обязательствами перед органами (наиболее частый случай) или без оных. Других сценариев не было. Перефразируя общеизвестное, «пятого не дано». Что из этого вытекает? Оказавшись под мягким контролем органов (сценарий № 1), вы будете изучать элиту постольку, поскольку это надо органам. Например, вы будете для них писать какие-то закрытые записки в пределах, строго заданных их регламентом. Оказавшись под жестким контролем органов (сценарий № 2), вы не исследовательской деятельностью будете заниматься, а суррогатом оной. Вы рухнете не только морально, но и интеллектуально. Сев в тюрьму (сценарий № 3), вы перестанете заниматься исследованиями и займетесь либо тяжелым физическим трудом, либо (если вам повезет, а за везение в тюрьме всегда надо платить) будете санитаром… или библиотекарем. Но не исследователем элит. А вот если вы уезжаете за рубеж (сценарий № 4) — тогда другое дело. Тогда (если у вас есть запал, способности и вам повезло) вы становитесь советологом. И начинаете работать в западных научных центрах, изучающих советское общество. Изучение советского общества в подобных центрах вообще тесно сопряжено с деятельностью западных спецслужб. Поскольку для Запада СССР — это не член Совета Безопасности ООН и не партнер по глобальной безопасности, а враг № 1. Этот статус врага № 1 зафиксирован в официальных документах. А в крайнем случае (тоже, между прочим, официально) к этому статусу добавлены еще и «джихадистские» директивы. Что такое «СССР как империя зла»? Разве это не призыв к тем или иным формам джихада? Пусть «холодного», но джихада? Вопрос в том, может ли джихад быть холодным? Но в любом случае ясно, что партнерским образом строить отношения с «империей зла» нельзя. Ведь ни президент Рейган, заявивший об СССР как об «империи зла», ни те, кто предложил ему этот специфический образ (как известно, заимствованный у Толкиена), отнюдь не чурались религиозного пафоса. И не просто пафоса, а идеи «крестового похода» (по сути — того же джихада). А как иначе? Где «империя зла» — там и «император зла». То есть дьявол. А где дьявол — там не договариваются. Итак, вы начинаете заниматься на Западе какой-то (пусть даже самой невинной) советологией. Чуть раньше или чуть позже к вам подходят и говорят: «СССР — дьявол. Мы боремся с дьяволом. Вы что-то знаете о дьяволе. Помогите нам в этой борьбе». Если вы отказываетесь, то попадаете в очень сложное положение. А если при этом вы советский эмигрант, то положение будет не просто сложным, а катастрофически сложным. Вас могут назвать агентом КГБ, могут… Мало ли что еще в таких случаях могут. А если вы соглашаетесь, то так или иначе интегрируетесь в мир западных спецслужб. Тут весь вопрос — как именно. Интегрироваться можно прямо или косвенно. Главное — что не интегрироваться нельзя. Если вы не хотите интегрироваться, то не занимаетесь советологией. Вы занимаетесь музыкой, Средними веками, Античностью, классической филологией, египтологией и так далее. Косвенная интегрированность осуществляется через научные центры, сохраняющие номинальную академичность. Этим центрам делаются соответствующие запросы. Стать автором ответа на такой запрос — престижно. Для этого совершенно не обязательно, образно говоря, надевать погоны, или оказываться в иных обязательных отношениях со спецслужбами. Если к вам обращаются часто, то вы должны гарантировать конфиденциальность ваших ответов. Это тоже не слишком обременительно. Но такие формы интегрированности возможны только если вы занимаетесь общей (желательно совсем общей) советологией. Например, советской литературой. Или живописью. Вас все равно будут чуть-чуть «отдаивать». Спрашивать, как подкопаться под Шолохова, например. Но именно чуть-чуть. Если вы занимаетесь советской экономикой или советским обществом, то «отдаивать» будут больше. Если вы занимаетесь советской армией — то еще больше. Но даже в этом случае вам может повезти, и осуществляемая по отношению к вам опека будет носить косвенный характер. А вот если вы советолог, занимающийся советской элитой, то между вами и спецслужбами возникнет совершенно другой формат отношений. Качественно другой! Опека перестает быть косвенной и становится прямой. В сущности, это уже не опека. Это служба. И вы сами виноваты. Ибо по своей воле занялись не экономикой, не культурой, не историей, даже не общей социологией. Вы занялись специальной социологией — социологией элиты. Это ваш ответственный выбор. Осуществив его, вы берете на себя все следующие из этого издержки. Прежде всего, вы оказываетесь на особом (мягко говоря, отнюдь не лучшем) счету в академическом комьюнити. Связано ли само это комьюнити со спецслужбами или нет — другой вопрос. Оно связано косвенно. И потому респектабельно. И оно понимает, что раз вы этим занялись (и, не дай бог, преуспели), то вы связаны со спецслужбами не косвенно, а иначе. Но пожалуй, даже не это главное. Для западной социологии теория элит — это не вполне респектабельная теория. Конечно, таких ученых, как Питирим Сорокин, с порога отбрасывать не удается. Превратить их в ополоумевших конспирологов, занятых теорией заговора, достаточно трудно. Но западный ученый панически боится оказаться не только на абсолютно зачумленной территории «теории заговора», но и на смежных с нею территориях. Питирим Сорокин очень уважаем… «но, знаете ли, что-то тут отдаленно напоминает что-то, отдаленно напоминающее нечто нехорошее». Это первая причина, по которой теория элит не в почете. Вторая причина почти столь же «фобична». Хотя речь идет чуть-чуть о другом. Ряд теоретиков элиты (Моска, Парето) в какой-то степени выразили симпатию к фашизму. А дальше та же самая пугливая псевдологика: «Они соприкасались с фашизмом. Мы соприкоснемся с ними. Нас соприкоснут с фашизмом». Западное академическое сообщество состоит отнюдь не из Джордано Бруно. А нынешняя «инквизиция хорошего тона» по сути своей ничуть не менее беспощадна, чем та, которая сожгла этого бескомпромиссного искателя истины. Конечно, заниматься на Западе советской элитой можно с большим успехом, нежели элитой западной. Потому что это чужая элита. И элита «бредовой страны», где все может быть. Как медведи на улицах, так и элита. Заниматься же своей элитой почти нельзя. Потому что — можете себе представить? — на Западе ее тоже нет. Точнее, на Западе есть доктрина, согласно которой ее быть не должно. Была она, элита эта, в нехорошие времена так называемого закрытого (то есть нехорошего) общества. А потом ее «съело» открытое (хорошее) общество (смотри Поппера). И она, элита эта, приказала долго жить. А те, кто это отрицает, так или иначе причастны теории заговора. Характерно, что западная наука не поощряет изучение элиты не только в своем обществе (в конце концов, оно хорошее и открытое), но и в чужих обществах (в том числе явно закрытых). Не слишком это респектабельное занятие — изучать какие-то там кланы, ордена (исламские или другие). И даже мафии. Почему это нельзя изучать — совсем уж необъяснимо. Но каждый, кто взаимодействовал с западными интеллектуалами, согласится с правотой моих утверждений. А согласившись, должен будет спросить себя, почему это все так. И ответ тут будет один: ЭЛИТА ВООБЩЕ НЕ ЛЮБИТ, КОГДА ЕЕ ИЗУЧАЮТ И это главный принцип, с которым должны ознакомиться все, кто хочет заниматься таким неблагодарным делом, как фундаментальная (и уж тем более прикладная) теория элит. ЭЛИТЫ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ НЕ ЛЮБЯТ ЭЛИТОЛОГОВ. Не любят их вообще, чем бы они ни занимались — своими или чужими элитами. Потому что сегодня они занимаются чужими, а завтра займутся своими. Ведь одно перетекает в другое. Зачем элитному закрытому игроку (если он есть) нужно, чтобы его изучали? Это как-то очень обидно и совсем не с руки. И потому гораздо легче пригвоздить любого исследователя, занятого этим вопросом, к позорному столбу конспирологии (теории заговора). И иногда кажется, что столб этот для того и создан, чтобы вкупе с неадекватными конспирологами (если их нет, откуда возьмется позорный столб?) подвергать поруганию и совершенно адекватных, но неудобных исследователей, занятых неудобными вопросами. Итак, даже на Западе вы, как советолог, отнюдь не обязательно должны получить необходимые вам ресурсы (финансирование, иного рода социальные санкции) на исследование советской элиты. Но если уж вы их получили, то с одной целью: разрабатывать аналитический аппарат и другие «средства познания» для политической разведки в отношении врага. Причем не абы какого врага, а врага № 1. Получив санкцию на исследование элиты врага № 1, вы тем или иным образом оказались интегрированы не просто в разведсообщество, а в его «святая святых». Ибо политическая разведка (а зачем еще заниматься элитами врага № 1?) — это всегда «святая святых». Как советолог, занятый элитой, вы на Западе можете быть нужны только ей. Войти в нее крайне трудно. Но если уж вы вошли в нее, то только тем способом, который описан знаменитой советской спецслужбистской присказкой (на самом деле носящей абсолютно интернациональный характер): «Закон у нас один: вход — рубль, выход — сто». Можно назвать ряд имен диссидентов, уехавших на Запад и сумевших стать подобными исследователями советской элиты. Наиболее известное имя — Авторханов (теория советской номенклатуры), чуть менее известное — Каценеленбоген (теневая экономика СССР). Есть и другие имена. Они сделали свой выбор. Он был мотивирован их ценностями. Мои мотивы и ценности имели кардинально иной характер. Но побудили меня к сходным занятиям. Причем на территории СССР, совсем мало приспособленной для такого рода специализации. Да, заниматься советской элитой в СССР было почти невозможно. Но я сделал все для того, чтобы воспользоваться этим «почти». Не люблю мемуаров и потому не буду рассказывать о деталях, позволивших осуществить такое «почти». Пройти нужно было буквально по лезвию бритвы. Ну, так я и прошел. Оглядываясь назад, — искренне недоумеваю, как это могло получиться. Но — получилось. Это «получилось» складывалось из тысячи частных человеческих выборов. Ошибись я хоть при одном из этих выборов… Сдвинься на миллиметр в сторону диссидентства или номенклатурного советского карьеризма… Поступи в другой вуз… Столкнись с другими представителями старшего поколения… Займись публицистикой, а не театром… Занятия театром, к примеру, оградили меня от лобовой политизации осуществляемых элитных исследований. Я копался все же в основном не в смертельно опасных нюансах чьих-то биографий (хотя и в этом тоже), а в иного типа нюансировках. Они касались тонких культурных различий внутри советской элиты (специфики тех или иных субкультур, функционирования контркультуры, логики смысловых конфликтов, соотношения интеллекта и власти). Решив создать особого рода театр, влияющий на сознание советской постиндустриальной элиты, я всецело отдался этому занятию. И мог всего лишь дополнительно к нему вести философский кружок при театре. Это «всего лишь», видимо, и стало тем балансиром, который позволил мне не потерять некое равновесие в условиях, когда его было почти невозможно не потерять. Я хотел создать театр особого типа и не хотел ничего другого. Я не хотел печатать самиздатовские журналы, не хотел прислоняться к нашим органам или иностранным посольствам, не хотел… В общем я много чего не хотел из того, что полагалось делать тогда. Может быть, потому и не потерял равновесия, идя по лезвию этой самой (отнюдь не только оккамовской) бритвы. К середине 80-х годов я и мои сподвижники создали тогда еще неформальный, но вполне респектабельный (неконфронтационный и одновременно независимый) клуб, в котором темой «Элита в советском обществе» занимались помногу, для души, научно — и отстраненно. Об отстранении скажу чуть ниже. В начале оговорю, что самое трудное было найти тех, кто захочет заниматься таким делом научно. То есть строго, сухо, без «тараканов». И при этом будет понимать, что никаких шансов на официализацию этих занятий (а значит, на социализацию себя и своего начинания) нет и не может быть, поскольку царствует советская доктринальность. Так этих шансов и не было, пока она царствовала. А потом она начала рушиться. Отнюдь не с нашей помощью. Мы-то, напротив, стали ее защищать. А она — отпихиваться. А мы — напрашиваться: «Ребята, вы же не одни завалитесь, вы страну завалите! Жалко ведь! Глобальная катастрофа». «Ребята» были разные. Кто-то и впрямь остро переживал возможность потерять страну. Кто-то рассчитывал, что с нашей помощью можно удержаться у власти. Кто-то уже вообще ни на что не рассчитывал, а просто открывал закрытые ранее социальные двери, поскольку их стало положено открывать (как-никак перестройка, обновление, новые отношения с интеллигенцией, рекомендуемое начальниками преодоление идеологических шор и так далее). Как бы там ни было, наши занятия советской элитой постепенно приобрели официальный характер. По поводу нашей — ранее неформальной — организации был выпущен ряд высоких правительственных постановлений. Нам были предоставлены возможности исследования, вытекающие из этого статуса (поездки в «горячие точки» с научными и политическими полномочиями и так далее). Мы стали больше понимать, точнее прогнозировать, развивать метод, вырабатывать возможные антикризисные решения. Но, пока мы их вырабатывали, изучаемая нами элита своими судорогами развалила страну. И не просто развалила. Развал породил регресс в каждой части распавшегося СССР. В том числе и в той части, которая превратилась в «демократическую Россию, освободившуюся от власти жуткого коммунизма». Эта самая «освободившаяся от самой себя» территория стала зоной культурного провала, перерождения, регресса и… и чудовищной элитарности. Вместо доктринального табу на «элитную» (очень непростую!) тему возникло диаметрально противоположное. Все стали называть себя элитой. Всё стало кричать об элитарности. Особый парадокс ситуации состоял в том, что кричавшие об элитарности называли себя одновременно демократами (ни в одном другом обществе подобного произойти не могло). Потом словечко «элитное» расползлось и превратилось во всепроникающую пленку грязи, налипшую на новое бытие (элитные коттеджи, элитные магазины, элитные журналы, элитные клубы, элитные проститутки…). В этой новой реальности надо было самоопределяться. И это было непросто. Мне удалось убедить какое-то количество единомышленников в том, что наши исследования по элитам могут иметь значение для будущего России. Не «демократической» и «избавившейся от коммунистической порчи», а России как таковой. Что нужно продолжать заниматься этими самыми элитами вопреки всему, и в чем-то даже наступая на горло собственной песне. Зачем? Ответить на вопрос можно только исходя из предыстории. А именно — из причин, побудивших меня обратиться к этой (неблагодарной и небезопасной) теме еще в советский период. Человек обычно занимается тем, что для него притягательно. Положа руку на сердце, могу сказать, что это не мой случай. Я не хотел входить в элиту. Я не люблю элитарность. Я крайне болезненно воспринимаю нынешнюю российскую маниакальную псевдоэлитность, доходящую до скверного анекдота. Сначала элитные машины и квартиры… Потом элитный паркет… Потом элитные унитазы… Хуже всего, что с этим скверным анекдотом надо как-то сочетаться. На нынешнем языке это называется «соответствовать». А как же? «Элитное консультирование»… Не имел и не имею ничего против той идеи, которая бросила вызов всей и всяческой элитарности. Более того, затертое в советский период содержание этой идеи начинает иначе проступать сквозь пакости постсоветского скверного элитного анекдота. Еду я недавно в этой самой «элитной» машине… И мой водитель походя с ехидством бросает: «Ну, как же, как же! Разрушим до основанья…» Я с любопытством спрашиваю: «А вы помните, что там обещали разрушить?» Установив, что человек не помнит (почему бы ему помнить-то, когда так все из памяти выбивают?), я говорю: «Мир насилья! Там обещали разрушить мир насилья. Предположим, что это невыполнимое обещанье. Но разве это не благородно — мечтать о том, чтобы мир насилья рухнул? А вы что, хотите мир насилья для своих детей и внуков? И что плохого в том, что только великая армия труда будет владеть землей, а паразиты — никогда? А вы хотите, чтобы паразиты землей владели?» Да, по дороге к разрушению мира насилья было совершенно невероятно много насилия. Но какая великая идея свободна от этого? Где этого насилия не было? Во Французской революции? В Английской? В войне между конфедератами и федератами в США? Не в насилии дефект идеи… Дефект в другом… В том, что неясно, где у этого мира насилья основание, которое надо разрушить. Никто еще не попробовал как следует в этом разобраться. И удары наносятся не по основанию. Ну, никак не по основанию. И нельзя нанести эти удары по основанию, не разобравшись, что такое человек. Может, он и является основанием? Хочется верить, что это не так. Но кто знает? Пока что все удары по миру насилья приводят к обратному результату. Это не значит, что надо любить мир насилья. Нужно быть не более покладистыми, а более умными. И искать, искать это самое основание. Удар же по тому, что кажется, но не является основанием, — порождает воспроизводство этим самым задетым, но неуничтоженным основанием еще более уродливых зданий. Те, кто пел цитируемую мною великую песню, думали, что избавят мир хотя бы от элитарности. А породили советскую номенклатурную элитарность, которая, по моему убеждению, являлась особо бесперспективной. Эта бесперспективность не имеет ничего общего с приписываемыми советской элите демоническими качествами. Напротив, благопристойность и умеренность большей части этой элиты сейчас абсолютно очевидны. Особенно на фоне нынешнего гиперэлитарного беспредела. Советские элитарии жили достаточно скромно. А многие — так почти аскетично. Конечно, была коррупция. Где ее нет? Но разве тогдашнюю коррупцию можно сравнить с нынешней? Нет, не в оргиастическом потреблении была вина советской элиты, полностью ответственной за гибель СССР. Не тяга к роскоши привела к ее загниванию, превратившемуся в общесоветскую гангрену. Но что тогда? Отсутствие профессионализма? Пожалуй, нет. По крайней мере, не это имело решающее значение. Но что же? Духовная и социальная ложь. Идеология декларировала отсутствие элиты. А элита формировалась. И нужно было каким-то образом прятать факт этого формирования от общества. Именно эта игра в прятки придавала формирующейся элите всю совокупность качеств, предопределивших крах СССР. Коммунистическая идеология вообще не нашла ответа на проблему элитогенеза. Неизвестно, может ли быть такой ответ в рамках данной идеологии. Особенно же в условиях пресловутой «победы социализма в отдельно взятой стране». Но если ответ и существует, то в той идеологической сфере, которая была изъята из доктрины уже в 20-е годы. Наверное, возможен, условно говоря, монашеский или орденский принцип формирования элиты, адекватной коммунистической идеологии. Но нет монашеской аскетической социальности вне порождающей монашество метафизики. Даже если Сталин и говорил о партии как об ордене меченосцев, то он лукавил. Ордена не было. И не могло быть, поскольку метафизический потенциал идеологии был сведен к нулю тем же Сталиным. Замени он идеологию и принцип элитогенеза — страна была бы спасена. Дострой он идеологию и введи в соответствие с достроенным все тот же принцип элитогенеза — страна, опять-таки, была бы спасена. Но все оказалось брошенным в узкую и абсолютно бесперспективную щель… С одной стороны, невозможность никакого последовательного квазимонашеского аскетизма. С другой стороны, невозможность полноценного элитогенеза, основанного на открытом предъявлении принципа привилегий. В результате сформировалась мещанская псевдоэлита. В меру пристойная, в меру алчная, в меру гедонистическая. Элита может быть очень разной — даже субкриминальной — и при этом эффективной. Но она не может быть мещанской. Мещанские добродетели заслуживают всяческого уважения. Но до тех пор, пока они обитают в своей, мещанской же, социальной нише. А вот за ее пределами они страшным образом трансформируются. И все произошедшее с СССР является следствием такой трансформации. Мир насилья разрушили не до основания. Ибо неизвестно, где у него основание (у Данте по этому поводу одно мнение, у Лютера — другое). Не разрушив этот мир до основания (а еще надо доказать, что что-то можно было построить после абсолютного разрушения), соорудили на месте поврежденного некий паллиатив. Благопристойный и в чем-то очень симпатичный, но слабый. Паллиатив всегда слаб. Однако внутри каждой слабости есть особо слабая точка. У этого паллиатива особо слабой точкой была паллиативная мещанская псевдоэлитарность. Так, значит, мир обречен на элитарность? Не знаю. Я не берусь обсуждать эту проблему в общем виде. И почему-то верю, что когда-нибудь общество все же освободится от элитарности. Что глобализм с глобальной отчужденной элитой, неизбежно представляющей собой ту или иную разновидность пресловутой «железной пяты», не есть роковая предопределенность. Можно обсуждать условия, при которых такое освобождение осуществимо. А также тенденции, делающие освобождение невозможным. Но это предмет другого исследования. Здесь же я только хочу указать на очевидное для меня обстоятельство. На то, что советский эксперимент провалился именно в силу бесперспективности встроенных в него механизмов элитогенеза. Жизнь и смерть СССР зависели от того, можно ли было исправить имеющиеся механизмы. Но их исправление требовало и понимания сути реальных процессов формирования элиты в реальном же обществе, и возможности влиять на эти процессы. Я хотел и понимать, и влиять. Потому что знал, что без такого понимания и влияния потеряю страну. Существовавший элитогенез работал на разрушение. Формируемый им тип элиты был несовместим с жизнью гигантской сверхдержавы, предъявляющей альтернативный глобальный проект. Я давно уже назвал этот тип элиты «антиэлитой» или «превращенной элитой». Средой, в которой произошел подобный элитогенез, была доктринальная анти- или внеэлитарность. Вчерашние представители рабочих и крестьян, попадая наверх, стремительно перерождались. Возникал особый социальный гибрид. Происходила «негативная конвергенция» худших принципов поведения представителей социального «верха» и социального «низа». Такое перерождение предсказывалось многими теоретиками. Возможность перерождения обсуждалась на ранних партийных дискуссиях. И продолжала обсуждаться вплоть до конца 20-х годов. Вот один из фрагментов такого обсуждения: «Оторванная от широких масс партия может в лучшем случае погибнуть в неравном бою. А в худшем… Скажете — сдаться в плен? В политических битвах в плен не берут. В худшем она предаст интересы породившего ее класса». Ну, так и предала! Но о каком отрыве от широких масс идет речь? Увы, диссиденты, которые иронически пародировали революционную песню: «Вышли мы все из народа. Как нам вернуться назад?», — били в самое больное место советской системы. Вышедший из народа номенклатурщик уже никогда не мог вернуться назад. Система инструкций, узаконившая само понятие «номенклатура» («номенклатура ЦК КПСС» и так далее), предопределяла пожизненное вращение номенклатурщика в высшей страте советского общества. Тем самым система превращала высокого управленца из «слуги народа» (декларируемая норма) в члена особого политического класса (социальная реальность). Управленец подобного типа постоянно должен был оперировать декларируемой нормой, то есть лгать. Ложь истачивает душу, как ржавчина. Управленец начинал ненавидеть ложь. Может быть, вначале — именно как ложь. Но вскоре он начинал ненавидеть норму как таковую. То есть всю свою политическую систему. Он превращался в своеобразного подпольщика, в двуличное и двубытийное существо. Это существо не могло освоить позитивное элитное содержание (чувство исторической ответственности, чести и миссии), но оно впитывало, как губка, негативное элитное содержание (не мы для народа, а народ для нас). Груз социальных обязательств (отсутствие наследуемой собственности, необходимость обеспечивать народу определенный набор социальных возможностей, идеологические табу и так далее) тяготил все больше и больше. И чем больше он тяготил, тем выше был уровень зависти к иным возможностям другой — западной — элиты. При этом возможности понимались узко материально. Все духовное из этих возможностей исключалось. И, увы, это почти автоматическое выбрасывание всего духовного (в том числе, аскетического, жертвенного) из вожделенных возможностей происходило (не будем лукавить) еще и в силу того, что номенклатурный выдвиженец был плотью от плоти тех омещаненных «низов», которые он сам же и омещанивал. «Народ и партия едины». Враждебные СССР силы прекрасно понимали данный феномен. Советологи, занимавшиеся советской элитой (иначе «кремленологи»), указывали генералам «холодной войны» на эти слабые точки советской «политической армии». Сам же номенклатурный класс стремительно загнивал, оказавшись в ловушке той заданности, которую я описал выше. Что такое загнивание? Это неспособность элиты решать общественные проблемы при ее способности (и готовности) любой ценой защищать свой социальный статус и властные возможности. А что значит — любой ценой? Если элита, попавшая в такую ловушку, не может выживать за счет обеспечения прогресса, она станет выживать за счет регресса. То есть у нее появляется общий интерес с врагами своей страны, которые тоже мечтают о ее регрессе. Мечты врага — законны («ослабление основного геополитического противника»). А рептильные телодвижения своей элиты — преступны. Так распался СССР. И если я занялся советской элитой в момент, когда запах ее гниения уже бил в ноздри, то только с одной целью. Найти какие-то выходы из тупика и предотвратить распад страны. Не в первый раз я спрашиваю читателя, кем бы он ни был: из-за чего распался Советский Союз? В науке контрпример имеет доказательную силу. Северная Корея выстояла? Куба выстояла (ей обещали крах в 1992 году)? Китай не просто выстоял, а скоро станет державой № 1? Для того, чтобы опровергнуть тезис о фатальности строя как такового, достаточно одного контрпримера. А их, как мы видим, немало. Нет, не строй виноват в распаде. Тогда кто? Кто-то скажет — народ. Кто-то, но не я. Я говорю — элита. Она погубила СССР. И вполне может «разобраться» таким же образом с нынешней Российской Федерацией. Для того, чтобы этого не произошло, нужно исследовать элитную динамику, элитогенез, элитные конфликты, элитные субкультуры и многое другое. Самоценны ли такие исследования? Никоим образом. Вопрос не в том, чтобы исследовать. Надо понять, как можно хоть в какой-то степени управлять элитогенезом. Как сдерживать хотя бы самые разрушительные элитные конфликты. «Философы лишь различным образом объясняли мир, но дело заключается в том, чтобы изменить его»… Так-то оно так. Но как его изменять, не понимая внутреннего устройства? Провозгласить еще раз, вослед за Ю. Андроповым, что мы не знаем до конца общества, в котором живем? А кто мешает его узнавать? На самом деле мешает очень и очень многое. Прежде всего, свойства изучаемых систем. Ибо такие системы, по определению, не могут не противодействовать их изучению. О каком противодействии я говорю? Есть простейшие формы противодействия. Для понимания этих простейших форм следует рассмотреть хотя бы «коллизию биографа». Предположим, что вы хотите написать всего лишь обычную биографию какого-нибудь влиятельного лица. Ну, скажем, американского мультимиллионера Арманда Хаммера. Станет ли Арманд Хаммер аплодировать каждому, кто решит стать его биографом? Нет! Потому что у Арманда Хаммера есть понятная всем репутационная проблема. А также возможность повлиять на ситуацию с ее решением. В соответствии с этим он наймет комплиментарных биографов. А всех других назовет клеветниками. Подаст в суд. Выиграет суд. Предполагая это, издатели не будут печатать «некомплиментарную» биографию. А если и будут, то только получив некие гарантии от влиятельных врагов Арманда Хаммера. Но враги тоже захотят не истины, а репутационной игры. И где тут место для истины? Она окажется между Сциллой и Харибдой. Между мифом о Хаммере-ангеле и мифом о Хаммере-демоне. Истина же никому не нужна. Хаммеру — по одним причинам, его противникам — по другим. Что такое элита? Это десятки тысяч таких Хаммеров. Каждый из них прячет правду о себе. Ибо эта правда содержит секретный материал, не имеющий срока давности. А также — разного рода неприятные сведения. Которые с точки зрения членов семьи (а также элитного сообщества в целом) могут не только подорвать индивидуальные репутации, но и спровоцировать гораздо более нежелательные процессы. Предположим, вы обнаружили всю эту правду. И сумели доказать, что это правда, а не ваш вымысел. При этом вы должны учитывать, что если элита как совокупность закрытых социальных систем существует, то она обязательно будет защищаться от ваших вторжений. Но предположим, что вы преодолели все ее защиты (с чего бы это?). Что дальше? Дальше десять тысяч закрытых семейных историй начинают переплетаться друг с другом. Образуется неимоверно сложный лабиринт. Это именно лабиринт, а не матрица. Полнота ваших сведений об архитектурных элементах этого лабиринта должна дополниться полнотой сведений о связях между различными слагаемыми данной суперсложной конструкции. Полнота и достоверность описаний начинают входить в противоречие. Это противоречие знакомо всем, кто помнит (даже из школьного курса), что выводить закономерности поведения большого ансамбля частиц (например, газа) из свойств отдельных частиц (например, молекул этого газа) в принципе невозможно. Было бы это возможно — не было бы очень многих отраслей знания. Термодинамики, например. Но дело не только в необъятности темы. Дело и в ее неопределенности. Что такое наука об элите? Это социология или это история? Предположим, что это история. Тогда элементом исследования является обычная биография. Биография тем и хороша, что в ней есть персоналистичность. Более того, биография тем лучше, чем больше в ней этой персоналистичности. Между тем я убежден, что для науки об элите персоналистичность в каком-то смысле является не необходимым условием, обеспечивающим адекватное понимание, а «шумом», который надо отсечь, изъять, подавить. Человек как личность, осуществляющая действие, — это одно. Человек как элемент элитного ансамбля, интегрированный в элитную же игру, — это другое. На элитной сцене действует не человек в его обычной жизненной полноте, а некая «человекофункция». Шахматная фигура, стоящая на огромной многомерной доске с бесконечным количеством игровых клеток. Для того, чтобы получить первичный материал, позволяющий осуществлять анализ элиты, вам надо проделать специальную процедуру превращения личности в эту самую шахматную фигуру. Личность еще может по-человечески снизойти до понимания мотивов какого-нибудь пиарщика, который клевещет («ну, заказали парню — он и клевещет!»). Она будет благодарна за восхваление («вот ведь — понял мое величие!»). Иногда она даже стерпит правду («надо же — сумел раскопать!»). Но она с особой болезненностью будет воспринимать превращение «себя, любимого» в какую-то там «фигуру на шахматной доске». Пока у тебя нет фигур, доски и понимания игровых правил — нет метода, нет науки об элитах. А когда все это есть, то имеющееся оказывается не сводимым ни к истории, ни даже к социологии. Что уж там говорить о восхвалении и клевете. Только в одном случае личность может с этим смириться. Если она обладает аутентичной саморефлексией. В этом случае она в каком-то смысле превращается уже из фигуры в игрока. Но, чтобы возродиться и стать игроком, она должна умереть, превратившись в фигуру. Я называю это «элитной трансформацией». А эта самая личность яростно противится такому умиранию. Примитивные формы, с помощью которых предмет сопротивляется исследованию, — репутационные игры. Более сложные формы — противодействие «элитной трансформации». Любому человеку (а представитель элиты — это чаще всего человек с сильным «эго») весьма неприятно ощущать, что, помимо того смысла деятельности, который он сам знает в силу осуществления деятельности, у нее есть еще какой-то другой смысл. Рефлексия всегда болезненна. Я уже говорил, что многие люди не любят смотреть на себя в зеркало, потому что у них есть образ самих себя, отличающийся от того, который дарит им зеркало, и что есть явление видеошока, когда вполне импозантный человек, увидев себя на экране, начинает стонать и кричать: «Неужели я такой урод?» Дело не в том, что он урод, а в том, что видеокамера осуществляет сшибку его внутреннего образа с образом внешним, то есть рефлексивным. Все эти шоки, связанные с зеркалами, возвращающими вам ваш образ в виде чего-то, противоречащего вашему представлению о себе, — ничто по сравнению с травмирующим шоком элитной саморефлексии («думал, что все знаю о себе и природе собственных действий, а тут какие-то шахматы и фигуры»). Представитель элиты претендует на обладание смыслом собственных действий. А элитная рефлексия бросает ему в лицо другой смысл того же самого действия. Далеко не каждый может справиться с таким вызовом. И только тот, кто с ним справляется, превращается из фигуры в игрока. Но это… Это, повторю, как умирание и воскресение. Первичное представление о своей роли и деятельности умирает в акте рефлексии. И возвращается в качестве познанной необходимости («так вот, оказывается, почему все было именно так»). Шок рефлексии, о котором я говорю, в принципе неизбежен. И, как мне кажется, абсолютно необходим. Но для того, чтобы он стал возможен, нужна эта самая «элитная трансформация». Она является тончайшей и трудно формализуемой процедурой. Но, если не осуществлять такую процедуру, не будет ни предмета, ни метода. Будут некие — более или менее ценные — сплетни. И ничего более. К сказанному необходимо добавить, что процедура «элитной трансформации» травмирует не только исследуемую личность, но и самого исследователя. Исследователя-то она, наверное, травмирует больше всего. И не каждый исследователь выдерживает подобную травму. Данная процедура требует, прежде всего, демифологизации. Но это только первый этап. Демифологизация призвана уничтожить два основных мифа, на которых строятся все репутационные игры. Миф об элитном персонаже как о демоне. И миф о персонаже как об ангеле. Занимаясь элитами (отдельными лицами или группами), категорически нельзя поддаться соблазну демонизации или ангелизации. Нельзя становиться на чью-то сторону. Нельзя видеть в одних слагаемых элитного социума воров, коррупционеров, укрывателей негодяев, а в других слагаемых — борцов со всем этим злом. Это не просто призыв к объективности. Легче всего ограничиться подобным призывом. Я же хочу сказать, что нет и не может быть универсальной объективности. Объективность объективности рознь. Есть объективность идеолога. Я занимался и буду заниматься идеологией. Но именно потому, что занимаюсь и буду заниматься, — знаю, чем идеологическая объективность отличается от объективности аналитика элиты. Идеолог объективен постольку, поскольку соотносит разные элитные группы с некой высшей идеей. Например, идеей развития. Оказывается, что одна группа или класс выражают эту идею, а другая группа или класс ей противостоят. Однако идеолог никогда не занимается разбором добродетелей и пороков отдельных представителей того или другого класса. Становясь пропагандистом (а это очень важная функция), он может начать идеализировать класс и представлять его вождей в виде средоточия добродетелей. А его противников — как средоточие пороков. Но это уже пропагандистские мифы! Существенная, но специфическая часть политики. Уголовно наказуемыми пороками отдельных личностей или специфических групп может заниматься практикующий юрист. Но его объективность и объективность идеолога… Согласитесь, это разные объективности. А есть еще объективность историка. Говорят, что историк должен быть беспристрастным. Может быть, и должен. Но я не знаю крупных, и тем более великих, историков, проявлявших абсолютную объективность. Историческая объективность весьма условна, поскольку историка интересует личность с точностью до ее исторической роли. Историк не морализатор. Он вживается в образ того или иного деятеля, творящего эту самую историю. И чем больше вживается, тем больше оправдывает его. Нет вживания без определенного оправдания. И нет исторического понимания без вживания. Значит ли это, что историк необъективен? Нет. Но у него своя объективность. И ее ограничения заданы подобным необходимым вживанием. Пока академик Тарле занимался, например, биографией Наполеона и вживался в эту фигуру, он противопоставлял детальному описанию изучаемого им героя некую схематизацию в виде антагониста героя — Талейрана. Но когда он начал заниматься Талейраном, то вжился в этот исторический персонаж, обогатил его деталями. В каком-то смысле Наполеон при этом потускнел. Оказалось, что Талейран хоть и беспринципный человек, но гений и провидец, а Наполеон все же более примитивная и прямолинейная фигура. Такова объективность Тарле — крупнейшего историка, занятого историческими личностями. Она связана не с пороками его индивидуального метода, а со специфическими особенностями собственно исторической объективности. Тарле был объективен как историк, занимающийся личностями и их вкладом в историю. Но он не занимался элитами. В Одессе говорят: «Почувствуйте разницу». Те, кто не чувствует различия, не должны заниматься элитами. Начав заниматься элитами, ты должен противопоставить историческому и историко-политическому описанию нечто принципиально другое. Все идеологическое должно быть изъято. Я бы сказал — убито. Вступая на эту стезю, ты как бы должен убить в себе другие модусы собственной интеллектуально-духовной личности. Ты должен убить в себе не только идеолога и даже историка. Это было бы еще полбеды. Но ты должен убить в себе еще и морального критика. А также критика, дающего правовую оценку всему тому, что делает исследуемая тобою фигура, передвигаясь по элитной доске. Люди, занятые другими профессиями, негодуют: «Мы де, мол, применяем по отношению к объекту общепринятые средства интеллектуальной атаки — моральные, идеологические, гуманистические, правовые. Тут появляется Кургинян со своей теорией элит и начинает обсуждать тот же объект с помощью метода, который элиминирует подобного рода средства. Все погружается в имморализацию, деидеологизацию, дегуманизацию и выводится за правовые рамки. В результате нам труднее атаковать объект. А значит…» Здесь оппонент делает многозначительную паузу и потом говорит: «А значит, Кургиняну это заказали те, кого мы атакуем!» Я лишь вкратце остановлюсь на двух (как мне кажется, не ключевых, но существенных) ошибках, которые постоянно делают мои оппоненты. Первая — логическая. Она в самом этом «а значит»… Ничто в таких случаях ничего не «значит». Даже если мой метод убивает чьи-то построения, то это не «значит», что я использую метод потому, что хочу эти построения убить. Я использую этот метод только для получения определенных знаний, и ни для чего больше. Вторая из этих (повторяю, существенных, но не ключевых) ошибок связана уже не с логикой, а с психологией: «Поскольку мы уже установили, что он убивает наш благородный труд, то в чем его мотив? Мотив поиска истины исключен. Тогда ради чего он так надрывается? Убийство нашего благородного труда предполагает наличие у него низменного и злого мотива. Ясно ведь, каковы такие мотивы. Это корысть или исполнение директив злых сил, с которыми мы благородно боремся». Вы никогда не читали работ, в которых доказывается, что «Тихий Дон» — это соцзаказ Сталина, а «Капитал» Маркса — это заказ высоких чинов британской разведки? Если вам такие работы нравятся, не надо мучиться над чтением утомительных выкладок, производимых мною — признаюсь с прискорбием — всего лишь в поисках истины. Если же вам такие идиотские измышления все же не нравятся, то задайтесь вопросом: почему авторы всех этих шизоинсинуаций считают себя свободными от принципа бумеранга? Если миром управляет заказ и все исследователи не ищут истину, а корыстно тот или иной заказ выполняют, то где гарантия, что они, критики этих исследований, не являются столь же корыстными исполнителями заказа, но соседних сил? Чуете, каков будет градус шизофрении при тотальном применении данного метода? Если бы в результате каких-то обвинений в мой адрес страдала только моя репутация, то я вряд ли стал бы стрелять из пушек по воробьям. Взялся за описание элит — жди множественных инсинуаций. Но шизофренизация сознания (она же — гиперконспирология) — это вам не частные обвинения в адрес какого-то исследователя. Это препятствие на пути исследования вообще. И бороться с этим препятствием мой долг интеллектуала и гражданина. Я для того и занимаюсь элитами, чтобы конспирологи не сводили людей с ума, не превращали нацию, ее думающую и обеспокоенную часть, в сообщество параноиков. И потому я попытаюсь показать, как интерпретаторы моих изысканий в сфере прикладной теории элит, применяя свой порочный метод, постепенно формируют в своем сознании (и, что хуже, в сознании своего читателя) некий синдром, граничащий с потерей всяческой адекватности. Предположим, что я, как исследователь элиты, решил заняться анализом нашумевшей статьи «Нельзя допустить, чтобы воины превратились в торговцев», которую написал директор ФСКН В. Черкесов. Предположим далее, что кто-то атакует В. Черкесова и хочет представить его как демона. Тут вылезаю я со своей «элитной трансформацией» и заявляю: «Ребята, чтобы что-то понять, надо избавиться от демонизации и рассмотреть Черкесова как фигуру на элитной доске». Что тогда говорится? Что я защищаю Черкесова от справедливых обвинений. Но тут же находятся люди, для которых Черкесов — заведомый ангел. А что? Борец с силами абсолютного зла — это ангел! Опять я вылезаю с этой самой «элитной трансформацией» и ору: «Не ангел, слышите? Не демон, но и не ангел, а элитная величина!» Тогда обижаются сторонники Черкесова. Им нужно превратить его в ангела, а я мешаю. Да еще я начинаю исследовать отставку Генерального прокурора РФ В. Устинова. Ну, неймется мне, и все тут. И опять мне нужна та же «элитная трансформация». Я ведь когда начал исследовать? Сразу по горячим следам, когда Устинова демонизировали так, что дальше некуда. Я что тогда сказал? Я сказал: «Устинов — не демон! Не демон он, понимаете? А элитная величина!» Противники Устинова возмущены: «Как это так — не демон, когда мы точно знаем, что демон!» Я отвечаю: «Нет демонов в элитных композициях! Забудьте о них! Есть только элитные величины». Тогда начинаются разговоры о том, что мне Устинов «отмывку» заказал. Но потом Устинов удерживает элитные позиции. Появляются охотники его хвалить. Да и элитная война требует этого. Очередные страстные воспеватели провозглашают, что Устинов — ангел. И тут опять я с этой самой «элитной трансформацией». Талдычу: «Не демон, но и не ангел». Те слышат, что «не ангел» — и обижаются. Тогда оказывается, что мне это заказали противники Устинова. Но на этом все не завершается! Я же и дальше что-то пишу. В книге «Слабость силы» возникает, например, А. Суриков. Скажете — не Генеральный прокурор и не глава Госнаркоконтроля. Не спорю. Но все-таки какая-то элитная величина. Элитные игры — это шахматы. Там важен не только формат фигуры, но и позиции, и многое другое. Короче, стал я рассматривать Сурикова. Что значит — рассматривать? Это значит осуществлять все ту же «элитную трансформацию». То есть в очередной раз освобождать, так сказать, персонажа от всех (да, именно всех) качеств, к которым так пристрастно относятся и враги, и апологеты. Ибо мне для работы (аналитики элитной игры) нужен не демон и не ангел, не герой и не негодяй. И даже вообще не личность. А некое «число»… индикатор… лакмусовая бумажка… меченый атом, наконец… Я предлагаю читателю присмотреться к тому, что маркирует собой появление данного персонажа в тех или иных средствах массовой информации в том или ином качестве. То есть я демифологизирую (и даже деперсонализирую) Сурикова, поскольку в этом суть метода. А кто-то уже выбрал Сурикова на роль демона. Сразу же вопль: «Ах, ты говоришь, что не демон! Значит, ты отмываешь такого-то и такого-то негодяя — ясное дело, за такие-то и такие-то деньги!» Но кто-то уже выбрал Сурикова на роль ангела (есть целый «клуб любителей Сурикова»). И он обижается тоже. Теперь представьте, что я осуществил «элитную трансформацию» (демифологизацию, деперсонализацию) по отношению к десяти-двенадцати элитным персонажам, фигурирующим в моей аналитике элитной игры. А чье-то сознание, обуреваемое желанием приписать всему этому заказные мотивации, осуществляет «сборку». Тогда оно, сознание это несчастное, попадает — причем тютелька в тютельку — в точку под названием «шизофрения». Потому что получается, что все скопом заказали мне друг на друга сразу все типы взаимоисключающих деяний. Я по их заказу сразу на всех клевещу. И одновременно всех отмываю. Сначала отмываю, потом клевещу. Потом снова отмываю, потом снова клевещу. А они мне платят и платят… О, этот золотой сон постсоветского гиперконспирологического разума! Какое чудовище ты рождаешь! Мультипликация обвинений в мой адрес превращается сначала в маниакальный синдром. Потом синдром распухает. Потом он перекидывается на мир. Потому что я и иностранные фигуры так же описываю. Распухая, он превращается в гиперманию «кургинизации» человечества. Уже нет ни мира, ни героев. Есть один глобальный художник, который рисует все сразу. Прямо какая-то София в мужском обличий. Или демиург? Так маниакальный пузырь (фирменное творение целого ряда конспирологов, включая тех, которые почему-то называют себя моими «интеллектуальными внуками») наконец лопается. И что тогда обнаруживается? Обнаруживается, что наша страна абсолютно разоружена по отношению к элитным играм, которые однажды уже привели ее к поражению, а теперь призваны добить ее окончательно. В стране нет субъекта, осуществляющего игровую рефлексию. Нет отработанного инструментария, с помощью которого можно улавливать угрозы подобного типа. Нет общественного мнения, способного с холодной страстностью реагировать на элитные игры, не попадая при этом в ловушку мифологизаций и всего прочего. А если возвращаться к тому, с чего я начал, то обнаруживается отсутствие основополагающих предпосылок субъектности. Тех предпосылок, вне которых не может быть, например, политической разведки. Что-то там вытворяет твой враг или конкурент… Но что? Видите ли, играет… Как играет, во что, зачем? Но враг этот или конкурент не только на своей политической территории играет. Он и на твою залезает. Для того, чтобы с этим бороться, тебе нужна не политическая разведка, а политическая контрразведка. Но и она невозможна. Потому что против тебя не воюют, а играют. А ты, не освоив эту культуру, не улавливаешь нюансов игры, ведущейся и на чужой, и на твоей территории. И, соответственно, беззащитен. Уже «холодная война» — это не война, а игра. Советский Союз не победили, а обыграли. Бжезинский все время говорил об игре, и не он один. Для того, чтобы воевать (на обычном или невидимом фронте), нужно иметь обычную разведку (и контрразведку). А для того, чтобы играть, нужны именно политические по сути своей (как их только ни называли — «стратегические», «концептуальные», «высшие») разведка и контрразведка. А также тот особый интеллектуализм, без которого они невозможны. Не будет всего этого без теории элит. Без применения операций «элитной трансформации» для превращения обычной информации в информацию об элитах. Без соответствующих баз данных, алгоритмов, моделей. И что же? Я должен отказаться от построения всего этого инструментария потому, что его построение кого-то обижает, кого-то возбуждает, а кого-то и беспокоит? Я бы, может, и отказался. Но — скажу честно и без патетики — ненавижу чужую умную и холодную беспощадность, которая приближается к нашему «Холстомеру», а он смотрит на это и думает: «Лечить, верно, хотят». Растерянность народа, интеллигенции, всей страны… Такая простодушная растерянность, наивно-романтическая в своей придурковатой озлобленности. Жалко… Потому и пишу, наверное, что жалко. Ну, вот… Начал с того, что надо избыть человеческое ради понимания сути элитных игр… А закончил, как и подобает жителю Отечества нашего, смыслом жизни. Признаю противоречие. Но не каюсь. Потому что смысл не в том только, чтобы победить, но и в том, чтобы, победив, не превратиться в то, с чем боролся. Правда ведь? Глава 2. Гносеология — или о том, как добывается искомое знание Что такое «элитная трансформация»? Это, прежде всего, трансформация. А что такое трансформация? Это преобразование. Где преобразование, там и преобразователь. То есть система, принимающая некую совокупность сведений («сигнал на входе системы») и обрабатывающая эту совокупность сведений с помощью каких-то алгоритмов («операций»). Преобразующее устройство называется «оператор». После осуществления обработки оператор выдает пользователю преобразованный массив сведений («сигнал на выходе») — рис. 1. 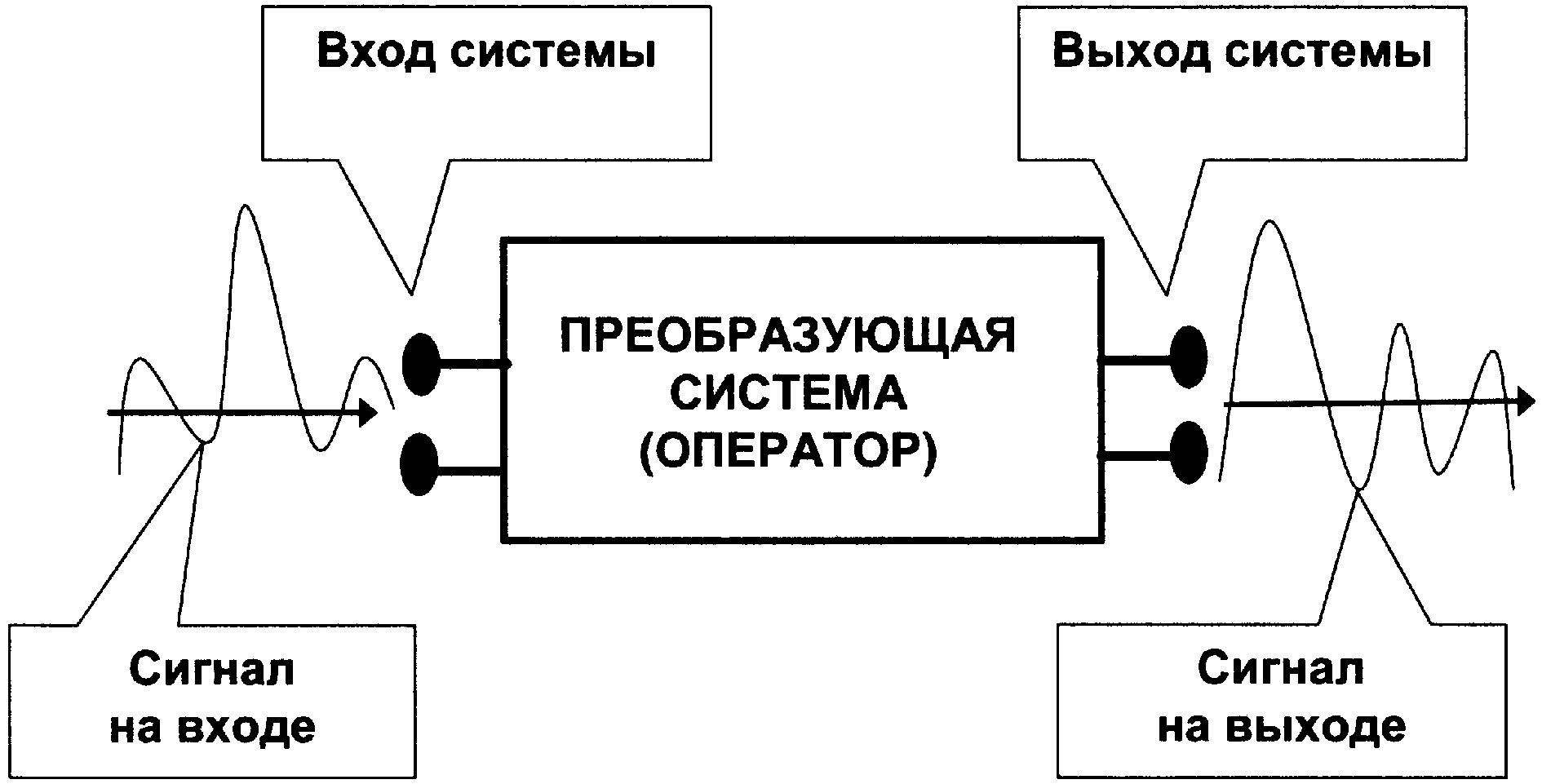 Рис. 1 Итак, рассматриваемое мною преобразование, которое я называю «элитной трансформацией» (в дальнейшем буду использовать сокращение ЭТ), может быть представлено в виде вышеуказанного оператора, принимающего нечто на входе и выдающего нечто на выходе. Но такое описание трансформации ничего не говорит о ее характере. Любая трансформация может быть представлена таким образом. Приведенная мной схема (рис. 1) тем и хороша, что на вопрос о том, ЧТО и ЗАЧЕМ трансформируется, будет дан ответ: «Что угодно и зачем угодно». Это «что угодно и зачем угодно» породило ряд наук (кибернетику, теорию операций и так далее). Но нас подобная «чтоугодность» не устраивает. Нам нужно знать, ЧТО и ЗАЧЕМ преобразует оператор ЭТ. И, прежде всего, нам нужно знать ЗАЧЕМ. Но разве все трансформации не делаются с одной и той же целью — исследовать то, что является предметом исследования? На самом деле, это не совсем так или, точнее, совсем не так. Исследователь имеет дело с двумя качественно разными типами осуществляемых им трансформаций или исследовательских процедур. Трансформации или исследовательские процедуры могут использоваться как для того, чтобы ИССЛЕДОВАТЬ некий предмет, так и для того, чтобы этот предмет СОЗДАТЬ. Кому-то может показаться, что такое разграничение является избыточным. Готов доказать, что это не так. Начну свое доказательство ссылкой на авторитет, понимая, что такая ссылка сама по себе не может ничего доказать. И все-таки… Есть такой великий философ Эдмунд Гуссерль. Он автор феноменологического метода. В рамках метода Гуссерль подробно описал законы (точнее, наверное, сказать «правила»), согласно которым феномены ведут себя определенным образом. Но для того, чтобы применить метод, Гуссерлю нужны были эти самые феномены. И он их сначала создал в качестве предмета своих будущих исследований, а потом уже начал исследовать. То есть он (как и любой другой ученый) применил на самом деле в своей работе преобразующие операторы двух принципиально разных типов. Операторы первого типа он использовал для создания предмета. Из чего? Из субстанции непосредственно данного. Если рыцарю нужен меч, а у него есть только металл, то он сначала скует меч, а потом начнет сражаться. Так и ученый. Предмет — это меч, с помощью которого он сражается. Его исследовательские процедуры — это приемы использования меча. Но перед тем, как начать сражаться с помощью меча, используя те или иные приемы, он должен получить меч. Получение меча — это и есть операторы первого типа. Приемы использования меча — это операторы второго типа. Создание предмета из реальности может производиться как за счет относительно простой переработки реальности в предмет, так и за счет очень глубоких переработок. Операторы первого типа могут так глубоко преобразовать реальность, что полученный предмет будет иметь очень отдаленное отношение к этой самой реальности. Так-то оно так. Но может оказаться, что только за счет такой глубокой переработки возникнут знания, которые в конечном счете раскроют нечто в реальности. Для того, чтобы «получить» предмет (феноменальное как таковое), Гуссерлю понадобилось применить очень мощный оператор первого типа (феноменологическую редукцию). «Получив» феномены, Гуссерль стал осуществлять определенные операции с этими феноменами. То есть применять к полученным феноменам операторы второго типа. Применив операторы второго типа (то есть собственно исследовательские процедуры), он вывел закономерности поведения феноменов. А дальше, соотнося феномены с реальностью, поведал нам нечто новое по поводу оной. Иногда операторы (и операции) первого типа составляют тысячные доли от совокупного «операционизма», осуществляемого учеными. И тогда кажется, что их просто нет. А иногда операторы (и операции) первого типа составляют до 90 процентов этого самого совокупного «операционизма». Гуссерль — это пример на тему о 90 процентах. Апеллируя к этому примеру, я отстаиваю свое право исследователя заниматься операторами (и операциями) первого типа достаточно подробно и тщательно. Я также оговариваю, что оператор ЭТ — это именно оператор первого типа. Подобная оговорка не может делаться походя. Поскольку она имеет огромное значение. Причем не только научное, но и политическое. Вы занимаетесь каким-то элитным актором. Но он же не только актор! Он еще и человек. У него есть имя, биография, мотивы, интересы. Все это слагает его непосредственную реальность. Что вы исследуете? Эту реальность? Тогда нет места операторам первого типа вообще и моему оператору ЭТ в частности. И нет места аналитике элит как науке! Хуже вы или лучше исследуете все эти биографические подробности, мотивы, интересы, связи, конфликты и прочее… Используете вы для их исследования адекватные или неадекватные средства… В любом случае, это не аналитика элиты. И не теория элиты. Почему? Потому что действующие лица и ситуации в их непосредственности — это, в лучшем случае, предмет новейшей истории. Ну, хорошо — политологии (хотя и это уже не так). Но это не предмет «элитологии». А для того, чтобы сделать действующие лица и ситуации предметом «элитологии» (теории элит), надо применить мощный оператор первого типа под названием ЭТ и с его помощью преобразовать реальность этих самых «лиц и ситуаций» в предметность «элитологии». Для прояснения использую филологический пример. Представьте себе, что вы анализируете, например, Евгения Онегина, главного героя одноименной поэмы Пушкина. Вы можете рассматривать Евгения Онегина как персонаж. Употребляя это слово, обращаю внимание читателя на то, что персонаж — это персона. То есть личность. Даже если некая маска («парсуна»), то все равно личность. Слово «личина» (опять же, маска) адресует тоже к личности. Как филолога, меня должен интересовать персонаж, то есть личность Евгения Онегина. Конечно, это собирательная личность, в которой художник творчески сконцентрировал определенные свойства. В зависимости от жанра такая сконцентрированность может в большей или меньшей степени отражать ту или иную реальность. Как реальность окружающего мира (внешнюю реальность), так и реальность души художника (внутреннюю реальность). Филолога интересует образ Евгения Онегина как единство этих двух реальностей. Единство объективного и субъективного. Одновременно с этим его интересует специфика отражения этой реальности художником (жанр, стиль, композиция, емкость метафор и так далее). И потому Евгений Онегин является для филолога персонажем — личностью, через которую творец хочет нечто выразить. Филолог анализирует эту личность именно как личность. Если художник не Пушкин, а, например, Блок, то филолог, может быть, и откажется от анализа персонажей как конкретных личностей в их буквальности. Евгений Онегин может ходить среди своих современников и быть узнанным ими. А Коломбина или Пьеро… Тут речь идет о другом соотношении субъективного и объективного. Блок через эти символические фигуры (маски) выражает свое понимание эпохи, фундаментальных человеческих коллизий… А также свое видение времени. То есть дает нам некоторые сведения об Александре Блоке — человеке определенной эпохи с определенным мировоззрением. Он рассказывает нам еще и о том, как эта эпоха видит фундаментальные человеческие коллизии, относится к року и долженствованию. И чем это отношение отличается от отношения эпохи… ну, например, того же Эсхила. Или Петрарки. Сравнивая отличия, мы можем увидеть общее. Оценить историческую динамику, сделать какие-то выводы по поводу истории идей и так далее. Таким образом, даже филологи разных школ, анализирующие произведения разных жанров, уже не только раскрывают, но и препарируют персонаж. Но все же они относятся к персонажу трепетно, поскольку он является предметом их исследования. А теперь представьте себе, что Евгением Онегиным как пушкинским героем занялся социолог быта. Ему наплевать на свойства личности. Он хочет сопоставить описанный Пушкиным набор пищевых продуктов, стоящий на столе у Евгения Онегина, и тот же набор пищевых продуктов, который значится в оставшемся и имеющем историческую ценность меню какого-то ресторана. А если не осталось меню, а у социолога быта темой является «пищевой рацион в Древней Греции»? Тогда для него Гомер, например, — это бесценный источник. Но его не интересуют ни внутренний мир слепого творца великого эпоса, ни сомнения, обуревающие душу Ахилла и выражающие собой некую реальность той эпохи, которую отражает Гомер. Его интересует, как разделывали быка. А его собрата, тоже занятого бытом Древней Греции, — что именно изображено на щите Ахилла. В этом смысле социолог быта превращает Евгения Онегина из персонажа в микросоциальный феномен (носителя определенной бытовой традиции). Для Евгения Онегина как личности очень важно, например, отношение к Татьяне Лариной. А для социолога быта это неважно. Ему важно, что Онегин, выезжая на прогулку, надевает широкий боливар. И он будет анализировать, в какой степени данная мода сопряжена с Онегиным как микросоциальным феноменом. Все ли носили широкий боливар, почему он был широким. От всего остального социолог быта… что? Правильно — абстрагируется. Является ли тогда анализируемый им Евгений Онегин персонажем? Или это уже микросоциальный феномен? Ответ, по-моему, очевиден. Еще не так давно в советских учебниках, а уж тем более в научной литературе соответствующего профиля, Евгений Онегин рассматривался как «выразитель определенных классовых интересов». Понимал ли Евгений Онегин как личность, что он является выразителем интересов городского дворянства и в этом противостоит сельскому дворянству, интересы которого выражает Татьяна Ларина? Если бы Евгений Онегин был не собирательной, а живой личностью, то, прочитав о том, что он действует как представитель класса (макросоциальной группы), он бы очень обиделся. И внятно объяснил пишущему, что действовал он как автономная личность, исходя совершенно из других, отнюдь не классовых мотивов. Например, он плохо выспался, выпил лишнего, обиделся, заскучал. Может быть, он даже раскрыл бы какие-то неявные мотивы своих действий… Например, накопившееся подспудное желание разорвать с ситуацией, которая его все больше затягивает и может привести к ненужной женитьбе. Но что он точно бы отверг, так это наличие у него классовой мотивации. Мне скажут, что он был бы прав. А исследователь, редуцирующий все до классовых мотивов, — это вульгаризатор и жертва идиотизмов определенной эпохи. Но как быть с тем, что Онегин с Ленским дрались на дуэли? Могла ли другая личность в другую эпоху делать то же самое? Буду ли я, например, обидевшись на то, что мой приятель за кем-то ухаживает (хоть бы и за моей женой), предлагать ему стреляться? Как на это посмотрят мои друзья, которые должны присутствовать и соучаствовать в выяснении отношений подобными методами? Откуда я возьму оружие, причем определенного типа (дуэльные пистолеты)? Как посмотрит на мои действия и действия моих друзей милиция? И вообще, придет ли мне это в голову? Может быть, я грубо выскажу приятелю, что я об этом думаю, а может быть, даже заеду ему в физиономию или разорву отношения. Но ведь не более! Если же я являюсь представителем другой субкультуры, которыми изобилует наше время, то я могу приятеля «заказать». И такие случаи описаны в современной литературе разного профиля. Отнюдь не только художественной. А Ленский «заказать» Евгения Онегина не может. Во-первых, потому что это не придет ему в голову. Во-вторых, потому что нет рынка киллеров. В-третьих, потому что он… Да что там он! Кто-нибудь поверил бы в сюжет, в котором такие «заказы» осуществлялись бы 25 лет назад? Сюжет сочли бы неадекватной выдумкой. И в целом были бы правы. А теперь это «почти норма» в пределах определенной субкультуры. Как представитель этой нормы смотрит на сюжеты из «Евгения Онегина»? Или на сюжеты из «Песни о Роланде»? Что такое знаменитое школьное сочинение: «Раскольников убил старуху — и правильно сделал. Жалко только, что плохо спрятал», которое цитировал Высоцкий в конце спектакля «Преступление и наказание»? Это элегантная шутка? Или пророчество по поводу нового времени? Все, что я здесь рассматриваю, адресует к различиям между персонажами и феноменами. Подход с позиций быта и моды редуцирует персонаж до микросоциального феномена. Классовый подход редуцирует тот же персонаж до макросоциального феномена. Рефлексия на феномен дуэли редуцирует персонаж до цивилизационного феномена (Бродель часто делает это в своей теории укладов). Фрейд будет редуцировать персонаж до психоаналитического феномена. Юнг — до архетипического феномена (почему не сделать это, например, со сном Татьяны Лариной?). А конспиролог скажет вам, что приснившийся Татьяне Лариной медведь — это символ определенной политической партии и одновременно короля Артура. И что использование Пушкиным такого символа означает его принадлежность к такой-то тайной масонской ложе. То есть он осуществит конспирологическую редукцию и будет подменять персонаж конспирологическим же феноменом. Первое, что необходимо установить при содержательном обсуждении «элитных трансформаций», — это то, что обсуждаемые с позиции ЭТ персонажи и ситуации носят редукционистский характер. Мы обсуждаем не персонажи и ситуации в их буквальности. Мы обсуждаем элитные феномены, которые получаем с помощью ЭТ — операторов первого типа, позволяющих превратить персонаж — в феномен, ситуацию — в элемент игры (игровой ход) — рис. 2. Итак, «элитные трансформации» не исследуют, а создают предмет. Трансформации, осуществляемые для создания предмета, а не для его исследования, можно называть редукциями (рис. 3). «Элитная трансформация» — это редукция, которая превращает героя из персонажа (в качестве какового он интересует, например, историка) в феномен (рис. 4). 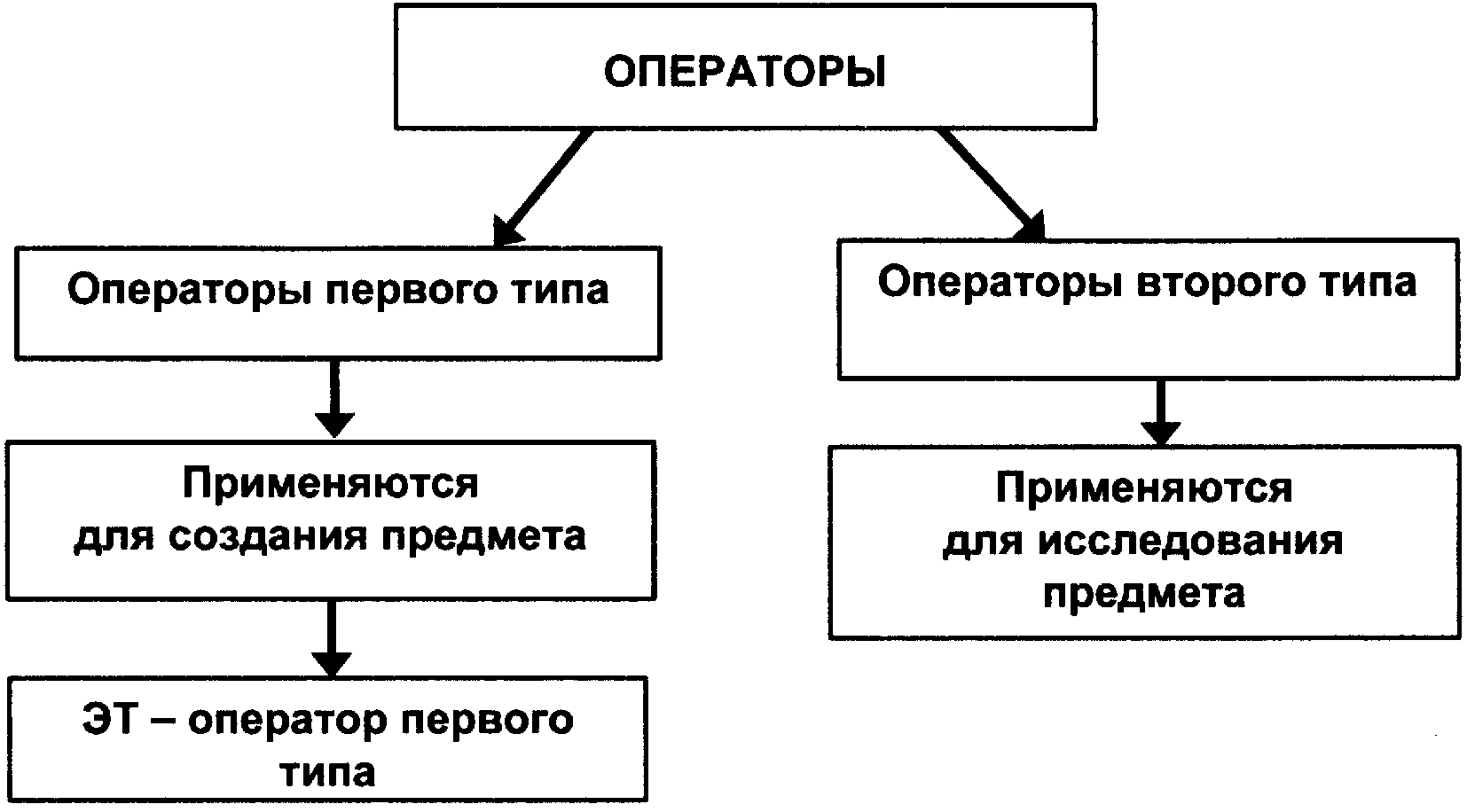 Рис. 2 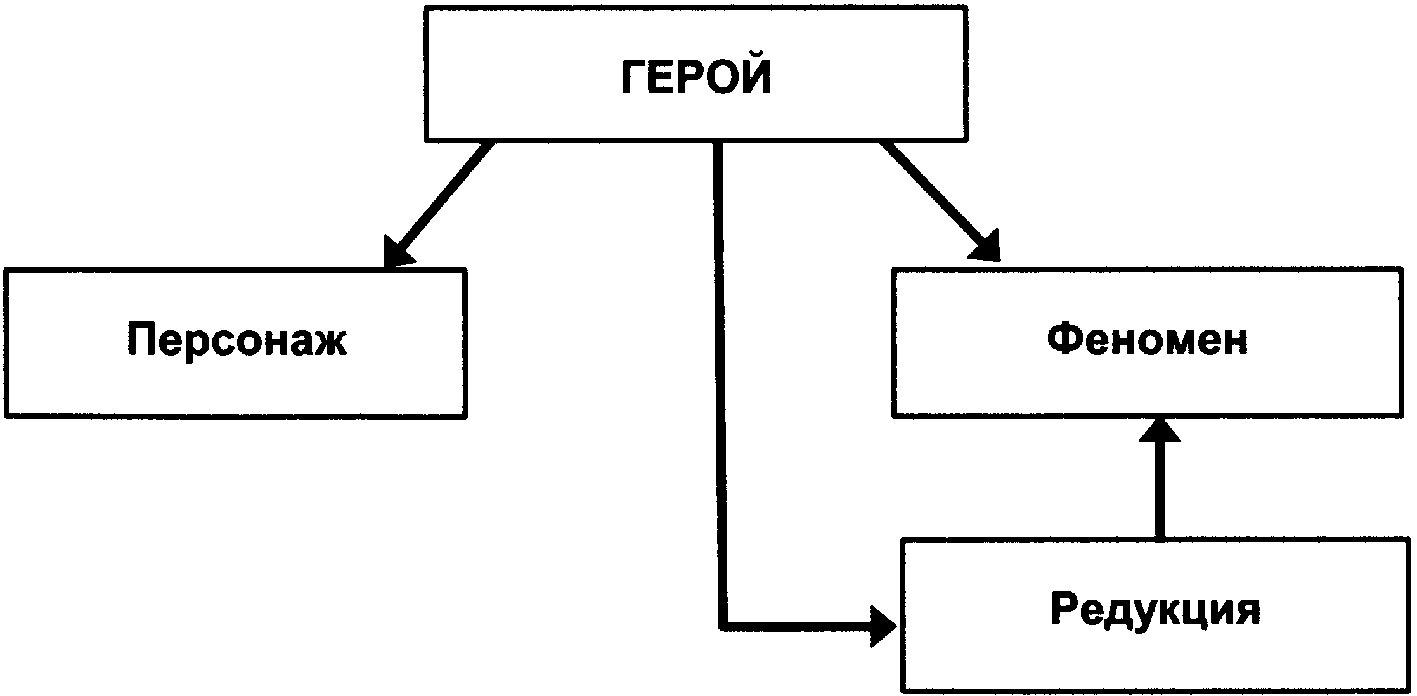 Рис. 3 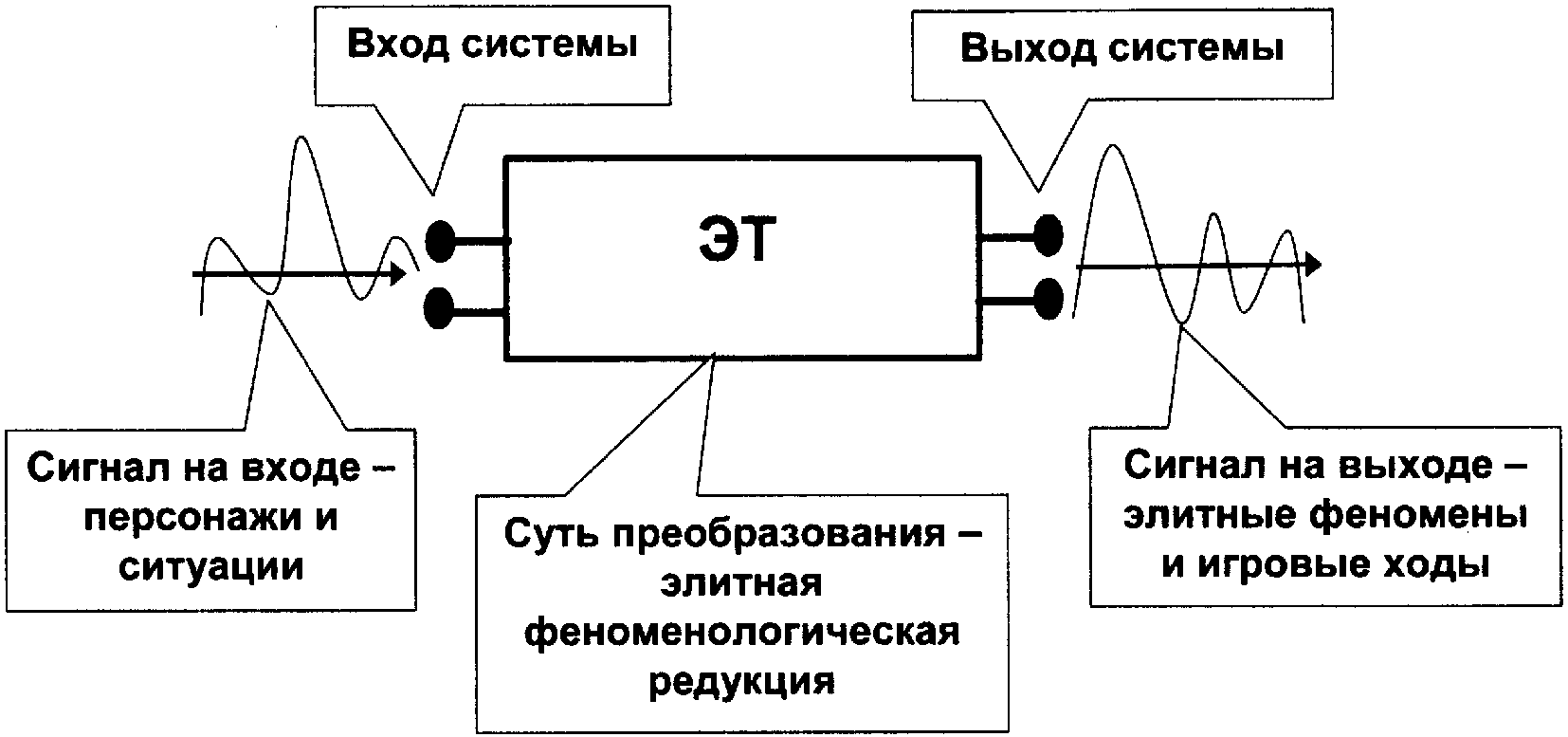 Рис. 4 Предположим, что я являюсь историком и в качестве такового исследую биографию… ну, например, президента какой-нибудь из стран Запада. Отдельный вопрос, что такое историк без социальной теории. Но это сейчас модно… Модно превращать историю в песню акына (что вижу — о том и пою). Модно не придавать происходящему никаких смысловых индексов… Мое отношение к этой моде понятно. Но я не собираюсь кому-то это отношение навязывать. Итак, предположим, что я историк-буквалист (биограф). И в этом качестве занимаюсь исторической биографией президента какой-нибудь европейской страны. Откуда я получаю данные — от самого президента, из официальных источников, от политических конкурентов? От внешних или внутренних сил, намеренных осуществить переворот (он же — восстановление конституционной законности)? Если я получаю данные только из официальных источников, то я плохой биограф. Если я договариваюсь с президентом и он дает мне доступ к какой-то личной информации, которая недоступна другим, то я хороший биограф. Если мне «сливают» данные политические конкуренты, то все зависит от качества данных. Если это объективные данные, то не все ли мне равно откуда они? Но тогда у меня должны быть доказательства их объективности. И я должен понимать, что я включаюсь в игру на чьей-то стороне и беру на себя соответствующие политические обязательства. Например, Боб Вудворд, известнейший американский журналист и фигура знаковая, участвуя в государственном перевороте (или восстановлении конституционной законности), выступил в качестве буквалиста, описавшего некую ситуацию в рамках действий президента США Ричарда Никсона. Описание этой ситуации, наложившись на противоречивую игру интересов, привело к импичменту (то есть государственному перевороту, использующему процедуры конституционного типа). Речь, конечно же, все равно шла о государственном перевороте, потому что теперь-то всем ясно, что действия, подобные тем, которые осуществлял Никсон, осуществляли очень многие президенты США. (Так, по крайней мере, утверждают очень крупные чины ФБР). Но Никсон осуществлял эти действия более небрежно, он насолил могущественным противникам больше, чем другие. Он допустил какие-то ошибки, и его антиконституционные действия получили иную огласку и иную оценку, нежели такие же действия его предшественников. Запустил процедуру расследователь («буквалист») Вудворд, опираясь на данные из тщательно законспирированного источника, который потом в течение десятилетий называли «глубокая глотка». Недавно стало известно, что этот источник — высокое лицо тогдашнего ФБР. А мотив — идеологический. В любом случае, Боб Вудворд раскрыл нам некий эпизод из биографии президента США Ричарда Никсона. И в этом смысле он может считаться и биографом особого рода. Одновременно Вудворд инициировал своим расследованием некое политическое действие. Это действие можно квалифицировать по-разному. Как восстановление законности в США… Как обеспечение чьих-то политических интересов… Как сумму из двух вышеназванных слагаемых. Неважно. Главное, что Вудворд — это буквалист, раскрывший неожиданную фактуру и оказавшийся участником определенной политической борьбы. Некто занимается биографией политика (например, того же президента Никсона). Что ему нужно для таких занятий? Ему нужно быть либо конфидентом данного политика, либо его политическим противником. А еще он может быть унылым коллекционером сведений, сообщаемых теми, кто обладает ценной фактурой. Обладают же конфиденты или противники. А еще он может собирать недостоверные сплетни. Но это если он буквалист и в качестве такового занимается тем же Никсоном как персонажем. А если он занимается тем же Никсоном как выразителем консервативных тенденций в американской политике? Значит ли это, что он подкапывается под Никсона? Ничуть нет, ведь сам Никсон говорит о себе как о консерваторе. Специалист по консерватизму (или американскому консерватизму XX века) возьмет хорошо известные данные о Никсоне и соединит их с закономерностями консервативного политического поведения. И вдруг эти данные «заиграют» совсем иначе. Специалист по американскому консерватизму XX века — не конфидент и не противник Никсона. Он ничего особенного о Никсоне не узнает и не хочет узнать. Но он много знает о консерватизме как таковом. И через это может помочь иначе понять Никсона. Это понимание могут использовать противники, друзья — кто угодно (рис. 5). 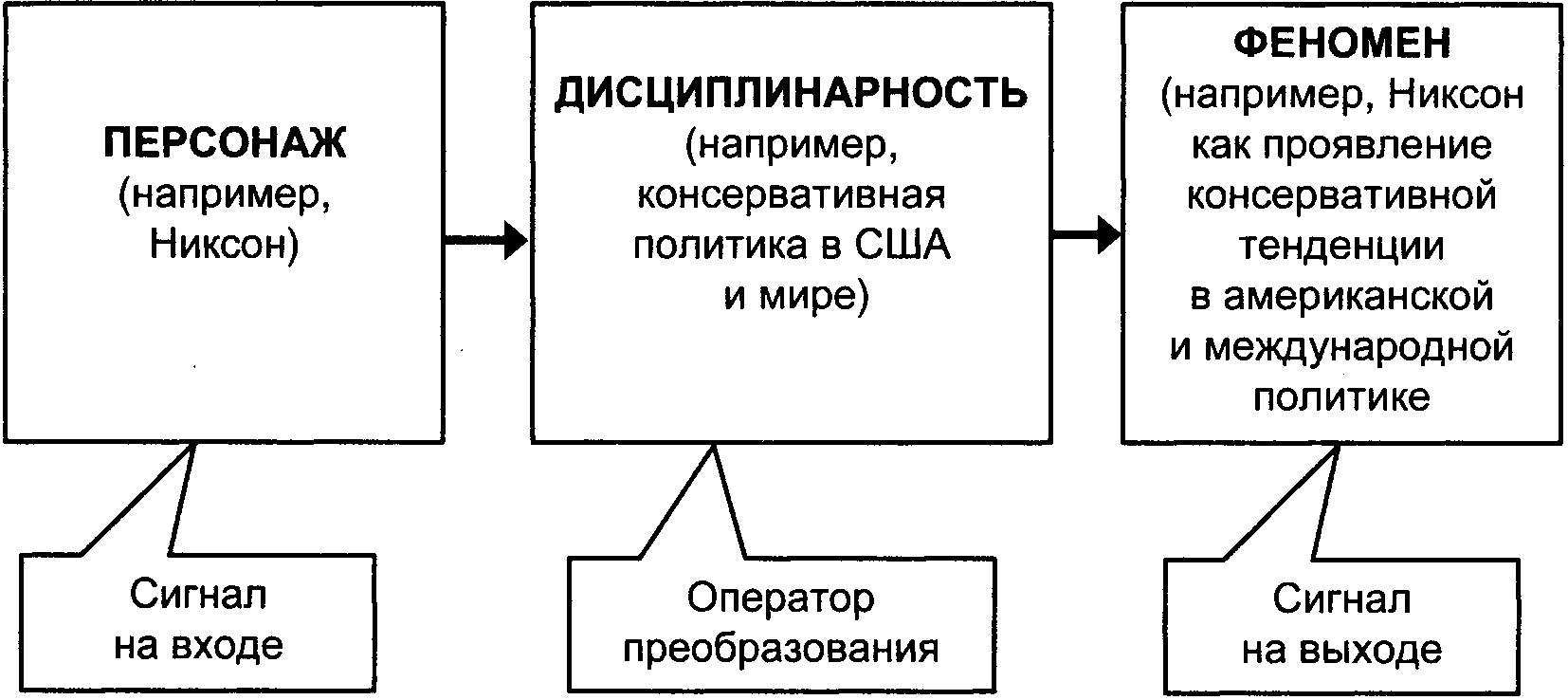 Рис. 5 Специалист по консервативной политике рассматривает персонаж, например, Никсона и говорит: «Я ничего не хочу особенно нового о нем знать. Меня не интересуют его похождения. А также сплетни по поводу этих похождений, а также измышления и прочее. Меня не интересуют и потаенные факты. Я не вступаю в отношения с «глубокой глоткой», не петляю по улицам, «отсекая хвосты», не прячу в тайниках сведения. Я беру открытую банальную биографию. Даже не составляю, а просто беру. И принимаю за первичную доказательную базу те сведения, которые в ней содержатся. Совокупность этих сведений и есть информационный пакет под названием «персонаж». Я подаю этот информационный пакет на вход системы под названием «дисциплинарность» (например, история консервативных политических течений в США и мире). На выходе я получаю феномен — Никсон как проявление этих самых консервативных тенденций. Я могу получить банальные результаты, а могу получить сенсационные результаты. Люди могут зевнуть, а могут ахнуть: «Батюшки, так вот это что такое!» Что я таким образом осуществляю? Редукцию. Я преобразую персонаж как некую совокупность безусловных фактов и официальных сведений в феномен, согласно той или иной операциональности». Операциональностью может быть содержательность той или иной науки (политологии, социологии, психологии). Операциональное может носить и более сложный характер, и тогда надо говорить о системном методе (рис. 6). В рамках данного метода персонаж (или ситуация, или сумма факторов, или какое-либо еще явление) подаются на вход многоканального оператора ЭТ. При этом каналами являются дисциплины (политология, социология, психология, культурология и так далее). Каждый из каналов преобразует явление (персонаж, ситуацию и так далее) в феномен в соответствии с той операциональностью, которая присуща именно этому каналу. В результате явление преобразовывается в сумму феноменов (феномен-1, -2, -3 и так далее). 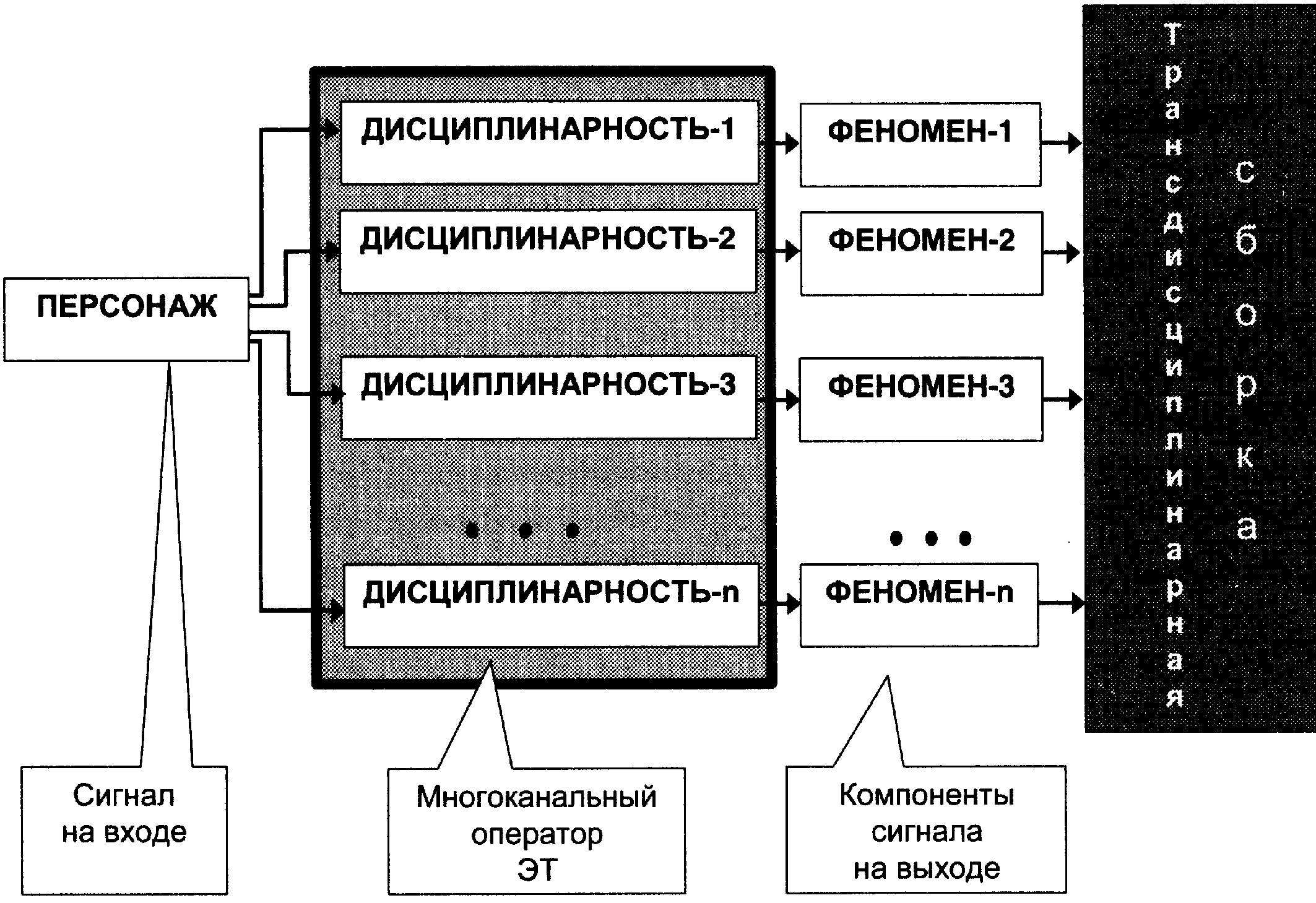 Рис. 6 А дальше надо осуществлять сборку. Надо преобразовывать сумму частных феноменов в некую феноменальную целостность. Для этого всегда используется та или иная трансдисциплинарная культура. Например, теория систем. Или (применительно к рассматриваемой нами сфере) теория игр. Или какая-то разновидность философии, обладающая прикладным интегративным потенциалом. Или же какая-то иная совокупность интегративных методов. Допустим, что на входе в такую систему находится некий интересующий нас персонаж. Живой и понятный самому себе Ричард Никсон. Тот Дик Никсон, который известен обладателю имени и биографии «от и до». Мотивы, подоплека тех или иных действий которого являются эксклюзивным знанием, претендующим у каждой личности на главное — НА ПОЛНОТУ. Мы превратили персонаж в сумму феноменов, наделили сеткой межфеноменальных связей и трансфеноменальным интегратором (ТФИ). И получили элитную фигуру с тем же именем Ричард Никсон (рис. 7). 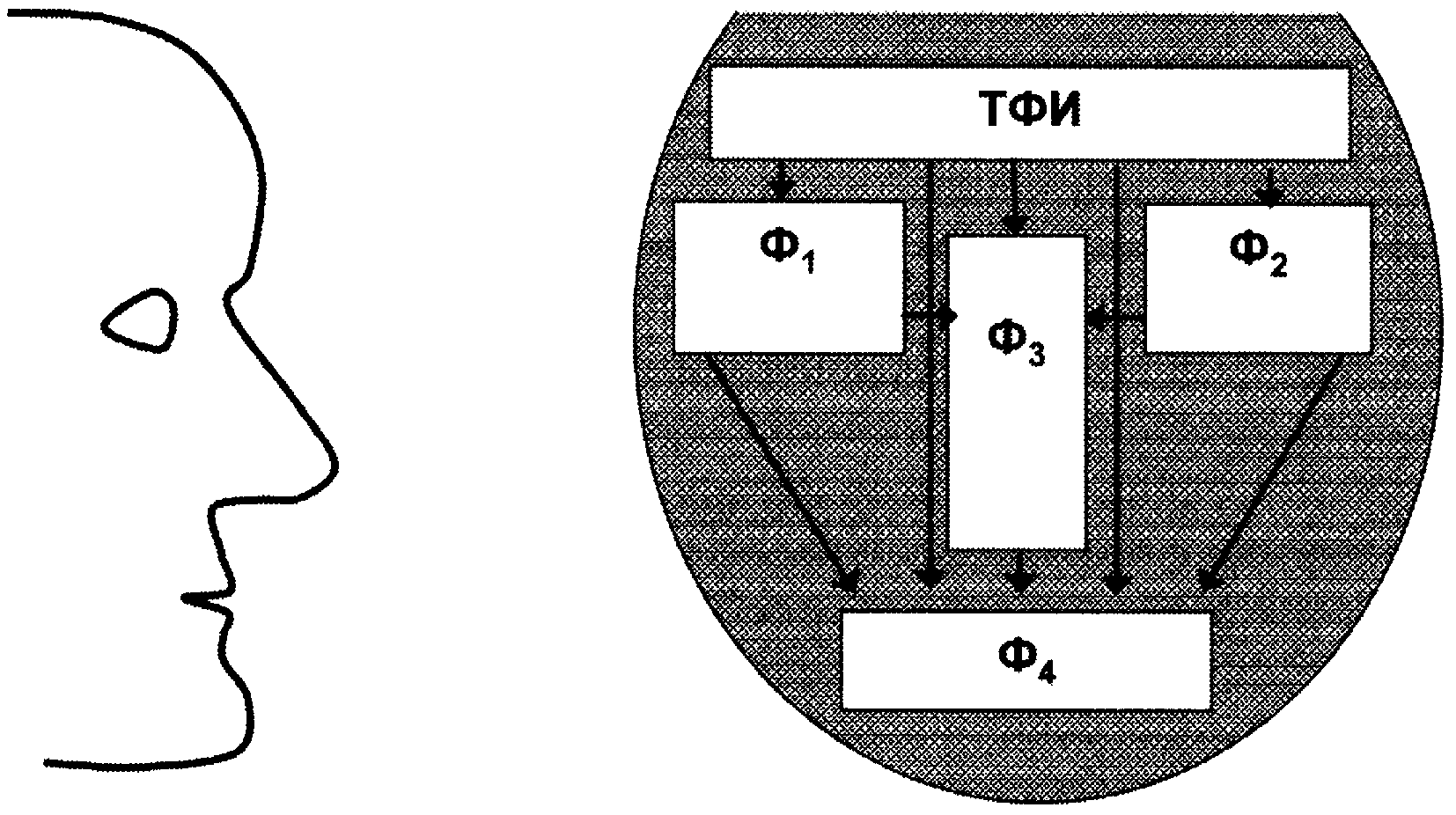 Рис. 7 И вот она смотрит на нас… эта маска, непохожая на живое лицо. Эта мозаика… хорошо, если из четырех… а если из тысячи элементов-феноменов? Эта элитная фигура, готовая к позиционированию на игровой доске… Она смотрит на нас — и нам нехорошо. Как бы стоек ни был исследователь, он поначалу испытывает шок, глядя на эту человекоподобную комбинацию феноменов, на эту сетку связей, подобную глубоким морщинам на лице, на эту «корону интегративности». «Что вам человек! Для вас все люди — числа!», — говорит королю Филиппу Великий Инквизитор из шиллеровской бессмертной трагедии. Но как же быть с человеком, если даже нам самим отчасти жутко, когда мы это делаем? Что это напоминает? «Портрет Дориана Грея»? Фоторобот? Или ту операцию, которую должен совершить судья на Страшном суде? Но мы-то люди! Не бесы, заключившие договор с художником, не роботы, не высшие судьи. Что и зачем мы делаем? И если даже нам не по себе, то как быть с тем персонажем, который должен выйти на рандеву с собою как элитной фигурой, реконструированной по мозаике частичных феноменов? И вот они встречаются друг с другом. Эта несомненность, которой является персонаж сам для себя, — и эта проблематичность. Что такое видеошок перед подобной встречей? И что может ее оправдать? Добро бы позитивный или отрицательный миф… Или добытые правдивые данные… Они не дышат на тебя неземным холодом. А встреча со своим ЭЛИТНЫМ ДВОЙНИКОМ дышит именно этим. Узнать в нем самого себя — страшно трудно. А главное — зачем? Попытаемся ответить на этот вопрос. Часто говорится, что человек обладает полнотой знаний о себе. Но тогда зачем он ходит к психологу? И тем более к психоаналитику? Значит, он чувствует какое-то отчуждение. Понимает или ощущает, что какая-то часть его самого от него оторвана. Что доступ к этой части мог бы что-то изменить в его жизни. Что, получив этот доступ к себе-другому, он не усугубит травму, а освободится. В любом случае, обретет новую эффективность. В конце концов, есть издержки любой профессии. Нормальному человеку в принципе неприятно (а иногда и недопустимо издержечно) жить в климате публичных поклепов, инсинуаций, издевок и поношений. А публичный политик в этом мире живет. И не просто живет, а иногда и сам создает скандалы, чтобы их использовать. И он терпит издержки, ибо это его профессия. Человек, вошедший в элиту, должен играть. И он будет играть — по своей воле или помимо своей воли, интуитивно или осознанно, точно или неточно. Войдя в элиту, он стал элитной фигурой, он приобрел своего элитного трансфеноменального двойника, свою маску. С непревзойденной силой это описал Сергей Эйзенштейн в фильме «Иван Грозный». И мне кажется, что до сих пор никто не осознал смысл длинного и декоративного танца с личиной, в котором Грозный смотрит на скоморошье представление, затеянное опричниками. «Как во городе было во Казани, Грозный царь пировал да веселился». Грозный видит в скоморошьей личине свою игровую трансфеноменальную маску. Молодой царь входит в элитную игру. «Мамка, это грозный царь языческий?» спрашивает наивный статист этого зрелища. И вскоре царь соглашается: «Да, это я». Он надевает на себя трансфеноменальную маску. При этом он отказывается от борьбы в пользу элитной игры. Он не хватает меч и не кричит «стража!». Он переодевает своего ближайшего родственника и позволяет его матери убить сына, приняв сына за ненавидимого царя. То есть начинает вести элитную игру. И он будет вести ее до конца жизни. Эйзенштейн показал в этой сцене некую элитную правду другому элитному игроку — Иосифу Сталину. А Сталин хотел всего лишь мифа — доброй сказки о сильном царе и хороших опричниках. Он увидел в фильме другое. Долго держал автора в муках неизвестности относительно своего решения, но в итоге фильм не запретил. Потому что ему была столь же желанна, сколь и тягостна правда о своем элитном двойнике — своей трансфеноменальной игровой сущности. Без этой правды крупный политик мертв. Хуже, чем мертв. Он именно фигура в полном смысле этого слова. Не отрефлексировав ситуацию (рефлексия… рефлектор… отражение… зеркало… двойник), человек становится рабом Игры. Войдя в элиту, он не может отказаться от Игры, и тогда не он играет — играют им самим. Хорошо, если он лишь только собой оплатит победу и поражение. А если за его поражение заплатит народ? Имеет ли он в этом случае право отказаться от элитной рефлексии? То есть от встречи со своей трансфеноменальной элитной маской? Можно победить и при этом проиграть. Сталин победил в величайшей из мировых войн. Но он не сумел выиграть Игру. Горбачев радостно уселся за стол мировой Игры — и проиграл ее вдребезги. Платим все мы. Ельцин просто залез под этот стол. Путин… Медведев… Что могут сделать они в условиях, когда напряженность Игры наращивается стремительно как никогда? И имеют ли право интеллектуалы, посвятившие жизнь пониманию Игры и ее законов, не высветить все темные закоулки игрового лабиринта? Кто они тогда такие и зачем занимались Игрой? Ведь не ради удовольствия! Не в бисер же играют, а в судьбы народов, целых цивилизаций и культур. Элита… Странные люди, получившие неслыханные, да в общем-то и ненужные им возможности… Люди, не обладающие аппаратом для адекватного освоения этих возможностей, хвастают, что научились пить вино за 30 тысяч евро бутылка. Если бы они видели чужие улыбки и могли читать чужую мимику (а главное, содержание чужих мыслей), они бы тут же умерли от разрыва сердца. Но нет! Они резвятся. А оплачивать будем мы? Да что мы! Какие-нибудь воронежские девчонки, радостно готовящиеся к вхождению в мировую цивилизацию! Элита… Страшная, между прочим, штука. Идешь по английским замкам, смотришь на портреты, развешенные по стенам, и понимаешь, что британская элита, по сути, приватизировала историю. Что британскому народу кажется, будто он обладает историей. А элита считает совсем иначе. Плохо это? Конечно, плохо. Но есть кое-что и похуже. В 1997 году я смотрел спектакль в одном из московских театров. По окончании спектакля оказался на довольно узком застолье. В числе участников застолья были некие руководители российского бизнеса и члены их семей. Я испытал глубокий двойственный шок. С одной стороны, позитивный. Потому что я увидел нормальных советских людей из очень знакомого мне слоя хозяйственников, близких к природе, работающих иногда в не вполне благоприятных условиях. Это были люди дела, управленцы, отнюдь не трутни и не элитарии. Напротив, глубоко неэлитарные люди. Что было невероятно приятно. С другой стороны, шок был негативный. Потому что это были люди, которых судьба бросила в элитный мир, дав им в этом мире ролевые позиции, чуть ли не равные Рокфеллеру. И уж, по крайней мере, гораздо большие, чем у Сороса. А они были к этому фантастически не готовы. Эту неготовность предстояло оплатить всей стране. Элита… В 1988 году, когда советские хозяйственники впервые вкусили от раскованных отношений с Западом, не было внятности в вопросе об эквивалентном обмене и хозяйственник мог по наивности обменять свою подпись, дававшую его западному партнеру многомиллионные, а то и миллиардные прибыли, на элементарную бытовую услугу. Впрочем, и тогда так поступали только «непродвинутые» хозяйственники. Но в 1994 году уже было ясно, что если у тебя есть нефть и газ и ты их правильно продашь (не продешевишь), то «видаки», гарнитуры и машины купишь на прибыль. И тем не менее именно в 1994-м иностранцы глумливо описывали, какой фантастический контракт можно получить в России в обмен на меблировку квартир этих самых «Рокфеллеров». Прошло еще несколько лет, пока продвинутые элитарные обитатели нашего «края непуганых идиотов» наконец сопоставили цены услуг таких «меблировщиков» и цены своих ответных услуг. И дошли до глубочайшего понимания сокровенной истины, смысл которой в том, что если есть «бабки», то, в конце концов, мебель можно купить самостоятельно. А на разницу между тем, что от тебя просят, и этой мебелью, — еще виллу и яхту VIP-класса. Наконец, и этот барьер был взят. Были освоены все прочие сокровенности. И некоторые из наших квазирокфеллеров — люди, в чем-то подобные описанным мной выше персонажам, — оказались сидящими (не фигурально, а вполне буквально, на приемах) за некими международными элитными столами. И были очень счастливы по этому поводу, сравнивая свое размещение за этими столами с менее статусным размещением неких элитных американцев. Когда позже эти наши квазирокфеллеры оказались не за элитными международными столами, а за решеткой, то даже не уловили связи между своим новым местонахождением и своим тогдашним местом у международного элитного стола. Вот что такое неотрефлексированность, отказ от рандеву со своим элитным двойником, со своей трансфеноменальной игровой сущностью. Так что делать-то? Этот вопрос с огромной и ранящей меня прямо в сердце исконно русской наивностью задают мне многие мои друзья и враги, когда я их припираю к стенке и показываю, какова ситуация. Герой одного из фильмов Рязанова отвечал: «Что делать? Сухари сушить!» Я так не могу. Мне всегда казалось и до сих пор кажется, что надо сделать все возможное для того, чтобы наша новоявленная элита освоила законы элитного поведения, и не в виде бутылок вина за 30 тысяч евро, а в виде чудовищного труда по встрече со своей элитной инобытийностыо. Возможно ли это? Не исключено, что невозможно. Ну и что? Я все равно буду это делать. Потому что вижу в этом свой долг. Наивные мои сограждане, получившие неограниченные финансовые потенциалы, почему-то решили, что термин «новый русский» носит комплиментарный характер. Быть может, они спутали это с «новым человеком как целью коммунистического строительства». На самом деле, речь шла о русских нуворишах. Новые русские, новые французы — это все нувориши. Nouveau riche — буквально «новые богачи». То есть быстро разбогатевшие люди, которые пытаются пробиться в высшие слои общества лишь на основе своего богатства. Еще Мольер обсуждал данный социальный слой, но апофеозом этого обсуждения является пьеса Дюма-сына «Денежный вопрос», поставленная в Париже в 1857 году и сразу ставшая легендарной. Ее главный персонаж — господин Жиро — очень быстро стал нарицательным. Нувориш… Несмотря на распространенное заблуждение, происхождение данного слова не имеет никакого отношения к ворам и воровству. Речь идет о специфической издевке аристократов над элитными претензиями победившей буржуазии, желающей имитировать элитные образцы и неспособной освоить элитную суть. Зарождающийся русский буржуазный класс, заявивший о своих претензиях в 1996 году, уже успел уйти в небытие. Я имею в виду сладкое небытие трусливого безвластного гедонизма. Ресторан… За столом гости… По двору бегают довольные розовые поросята… Повар спрашивает: «Которого на шашлычок?» Гости советуются: «Может быть, этого? Вон как хвостиком дергает!» — «Нет, вон того, он пожирнее!» Но кто же гости, охочие до поросят?.. На шашлычок или на холодец с хреном… В принципе, никакого отторжения их позиция не вызывает. Если поросята, то почему бы не на шашлычок? Однако все чаще возникает впечатление, что сами гости сидят на первом этаже ресторана, а со второго этажа их разглядывают любители других блюд. И обсуждают, кого из сидящих на первом этаже съесть первым. Я заблуждаюсь? Буду рад… Но я твердо знаю, когда это будет не так. Это будет не так в тот момент, когда в России появится дееспособный господствующий класс, который сможет осуществлять подлинное господство хотя бы в грубых, но эффективных формах. Этот класс должен, как минимум, осознать, что его высшей капитализацией является не совокупность нефтяных или газовых скважин, а страна. Что только она делает его элитно дееспособным. А без этой дееспособности он обязательно превратится в пожираемое, а не в пожирающее. Или же в то, что, будучи пожирающим у себя в Отечестве, станет пожираемым на более широких транснациональных просторах. Классовое господство — неприятная вещь. И я абсолютно не предопределяю свое отношение к нему в момент, когда оно состоится. Но я сделаю все возможное для того, чтобы оно состоялось. И вот почему. Совсем вульгарная (я бы сказал, вульгарная до идиотизма) псевдомарксистская теория государства представляет это государство как очищенный от любых других (общенациональных, историко-культурных) свойств аппарат насилия. Это насилие, согласно такой идиотской (и очень распространенной не только в России) схеме, осуществляет господствующий класс. И он осуществляет его во все большей степени, вплоть до полного уничтожения своего народа, его низведения до уровня рабов. Сдерживающий процесс, согласно этой схеме, — это борьба эксплуатируемых против эксплуататоров. Если бы все было так, то чего ради добиваться исторической состоятельности этого самого господствующего класса? Однако это просто не может быть так. Потому что господствующий класс должен положить на стол международной игры потенциал той нации и того государства, которые создают для него позицию господства, позволяющую находиться в игре. Чем ниже этот потенциал, тем ниже игровые возможности. Господствующему классу США нужны сильные Соединенные Штаты. В том-то и дело, к сожалению, что в России нет господствующего класса. А есть класс элитарных паразитариев. Как только в России возникнет господствующий класс, ему понадобится сильная Россия. При этом он, возможно, будет грубо эксплуатировать ее население. Но даже в эту грубость уже будут встроены какие-то ограничения. Как бы груб ни был этот класс, он, освободившись от паразитарности (а без такого освобождения он не будет господствующим), обязан думать о народе. О сильной армии, сильном ВПК, сильной промышленности вообще, об инженерном корпусе для этой промышленности, о науке для этой промышленности, о здоровье населения (иначе какая армия), а значит о медицине. Нет и не может быть науки и инженерии без высшей и средней школы. Без инфраструктуры. Нет армии без идеологии. А значит, нужна духовность, нужна культура, и о них тоже придется думать. Нет государственной устойчивости без связи элиты с обществом. А значит, как минимум, элите придется посылать своих детей в армию. А как максимум… Как максимум, учиться понимать, что государство не только средство Игры. Это способ, которым народ развивает и сохраняет свое историческое предназначение. А значит, элита является элитой постольку, поскольку у нее есть все нематериальные активы, связанные с этим предназначением, этой миссией, этой идентичностью. Относясь к своему народу как к эксплуатируемому скоту, правящий класс потеряет народ, а значит, и господство. Как уже не раз теряли его другие. Его накажут если не внутренние, то внешние конкуренты. Начав с господства, класс обязательно сдвинется (и очень быстро) к чему-то гораздо более конструктивному. Но пока класс НЕ МОЖЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ГОСПОДСТВА. И тогда его функционирование представляет собой «паразитарную эстафету». Совокупный паразитариум выделяет из себя лидирующую группу. Она что-то обещает. Но на деле все сводится к продлению бытия этого самого паразитариума. А поскольку такое продление довольно быстро обнуляет обещания и надежды, связанные с этими обещаниями, то через несколько лет надо менять лидирующую группу. И формировать новые обещания ради продления все того же паразитариума. Отдельные представители предыдущей лидирующей группы могут и пострадать. Но группа в целом конвертирует власть в собственность и пополняет мировой гедонистический бомонд. Подобный механизм называется «паразитарной ротацией». Он широко известен в мировой практике. Какой-нибудь африканский паразитарий грабит свой народ в течение большего или меньшего количества лет. Потом он «зарывается», или народ все-таки взбрыкивает. Тогда данного паразитария убирают с политической сцены. Редко — кроваво. Чаще — элегантно и без особых издержек для убираемого. Отработанный паразитарий заменяется новым. Новый делает все то же самое. А прежний плавает на яхте, живет в Лондоне или Париже, играет в гольф или в покер. А иногда даже предается оппозиционной деятельности, осуждая нового паразитария и рекламируя свои прошлые «деяния», столь контрастно отличающиеся от нынешних «злодеяний». Паразитариум страшнее любого господства. Ибо в его основе дисфункция, неготовность и неспособность осуществлять действия, задаваемые социальной ролью. Роль желанна и охраняема. Действий — нет. Можно и должно тестировать класс, проводя разграничения между «кластером господства» и «кластером паразитариума». Можно и должно при этом указывать, что выбор следует делать в пользу «кластера господства». Можно и должно оговаривать, что победа «кластера господства» должна сопровождаться борьбой масс за свои права. Но пока нет «кластера господства», нет даже масс. Есть полудохлый скот, у которого сосут кровь и который не способен не только на борьбу за свои права, но и на какое-либо другое внятное социальное поведение. «Господство» — грубое и скверное слово. «Господствующий класс» — и впрямь отнюдь не сахар, чтобы не сказать больше. И я, конечно, предпочитаю слову «господство» (господствующий класс и так далее) слово «субъектность». Господство — это самая негативная форма субъектности. Но даже эта форма субъектности лучше бессубъектности. Отсутствие претендента на любую субъектность, включая господство (а суть нынешней российской ситуации именно в этом) означает историческое исчерпание народа, его переход к безгосударственному бытию. Которое, в нашем случае, сразу же становится бытием оккупационным и ликвидационным. Русский народ и все народы России, лишившись своего государственного бытия, получат бытие оккупационное. Ни о какой полноценной жизни на данной территории для всех народов России, и прежде всего для русского народа, связанного с территорией нерасторжимыми идеальными обязательствами, речи не будет. А значит, надо сделать все, чтобы преодолеть коллизию бесхозности, без- и анти-элитности. Коллизию перманентной паразитарности. Сейчас основной враг России — бессубъектность. Нет класса или элиты, осуществляющих по отношению к России полноценное субъектное поведение любого типа… Хотя бы и господство, повторяю, но полноценное, ответственное, исторически состоятельное, адекватное огромным вызовам XXI века. Нельзя оторвать вопрос о таком полноценном субъектном поведении от вопроса об элитной (в том числе и игровой) адекватности и от вопроса об элитном (классовом) самосознании. Нельзя решать эти вопросы, не обсуждая (как в общем, так и в конкретном плане) острые моменты нашей здешней бытийственности. Многие из этих моментов связаны с элитными конфликтами. А значит, надо обсуждать их. То есть заниматься элитной феноменальной и трансфеноменальной редукцией. Но одной редукции мало. Редукция лишь реконструирует из персонажей фигуры. И превращает ситуации в ходы и комбинации на элитной шахматной доске. То есть нужна доска. Игровое пространство, содержащее определенные правила. Но прежде, чем переходить к игровому пространству, нужно хотя бы перечислить те реальные дисциплины, с помощью которых должна осуществляться «элитная трансформация». Другими словами — сколько же каналов у нашего оператора и каковы они? Канал № 1 — это социология элиты. А также социальная теория, позволяющая сопрягать элитные сюжеты с макросоциальным процессом. Любой персонаж принадлежит тому или иному классу. Или страте. Или клану. Или другой социальной общности. Он не существует сам по себе. На языке теории элит это называется «элитный бэкграунд». Этот бэкграунд может быть жестким или рыхлым (социально аморфным). Он может быть быстро меняющимся или устойчивым. Но он должен быть. Элитные фигуры не функционируют в безвоздушной среде. Они апеллируют к своим или чужим элитным общностям, расположенным в широком диапазоне — от классов до так называемых «фонди» (узких элитных групп). Канал № 2 — культурология элиты. Элита нуждается в идентичности. И формирует ее своими способами. Если мы не можем разобраться, как сопряжены элитные сюжеты с разными регистрами этой идентичности (от самых примитивных до изощренно-эзотерических), то мы вряд ли в чем-то разберемся. Конкретные персонажи сами могут быть абсолютно чужды подобным идентификационным заботам. Но это не значит, что идентичность не имплантируется разными способами в эти же персонажи через их элитных двойников. Герой Мольера господин Журден не знал, что он говорит прозой. Но он ею говорил. Тот или иной мой персонаж может не знать о своей связи с какой-то там идентичностью. Но элитная игра знает «за него». Знает и включает в себя. Причем по очень жестким законам. «Незнание не освобождает от роли». А значит, и от ответственности. Канал № 3 — герменевтика. Очень разная герменевтика. Прежде всего, герменевтика информационной войны. Герменевтика вообще — это расшифровка. Любая расшифровка. Есть буквальность, а есть ее смысл. Восстановите смысл по буквальности. В принципе, на этом основана вся теория решения обратных задач, которой автор этой книги занимался еще в далекие годы научной работы в геофизике. Ты имеешь в своем распоряжении следы от формирующего нечто источника. А должен по следам реконструировать сам источник. Источник может быть источником чего угодно. Например, это может быть железорудное месторождение как источник магнитного поля. Или следы преступления, создаваемые преступником как источником деятельности. Математическая теория, которой я когда-то небезуспешно занимался, утверждает, что любая обратная задача относится к классу так называемых некорректно поставленных задач. Ну, и что? Некорректно поставленные задачи можно решать, используя те или иные регуляризаторы. Не вдаваясь в математические детали, обращу внимание на то, что уже чтение Библии или Гомера давным-давно (в эпоху эллинизма и в Средние века, например) стало герменевтическим. Какое это имеет значение для нашей темы? Во многом решающее. Если данные о персонаже (или о ситуации, или о чем-то еще) носят строго нормативный характер, то восстановить по ним элитную игру достаточно сложно. Между тем все остальные данные делятся на какие-то эксклюзивные (а значит, недоказуемые) сведения и мифы. Эксклюзивные сведения на то и эксклюзивны, чтобы ими не пользоваться. Читая лекции по аналитике, я постоянно в связи с этим цитирую строчку из советского поэта-диссидента Галича: «А мне говорят: — Ты чего, — говорят, — орешь, как пастух на выпасе?!» Нельзя заниматься прикладной теорией элит и «орать, как пастух на выпасе». Кроме того, даже если у какого-то странного исследователя возникло желание так орать — в чем доказательность? Эксклюзивные сведения становятся доказательными лишь при ссылке на источник. И тогда исследователь — вовсе не исследователь, а провокатор. Кроме того, источник, на который сошлются, никогда не подтвердит эти сведения. А если он подтвердит — то и он провокатор. Тогда сведения — это не сведения, уж тем более, не элитарные. Круг замыкается. И называется такой круг, между прочим, герменевтическим. А как выйти из круга? И можно ли из него выйти? Само существование такого круга говорит о том, что аналитика элит, по определению, не является исторической дисциплиной, потому что нет истории без источников. А аналитика элит не может апеллировать к источникам по сути своего метода (рис. 8). 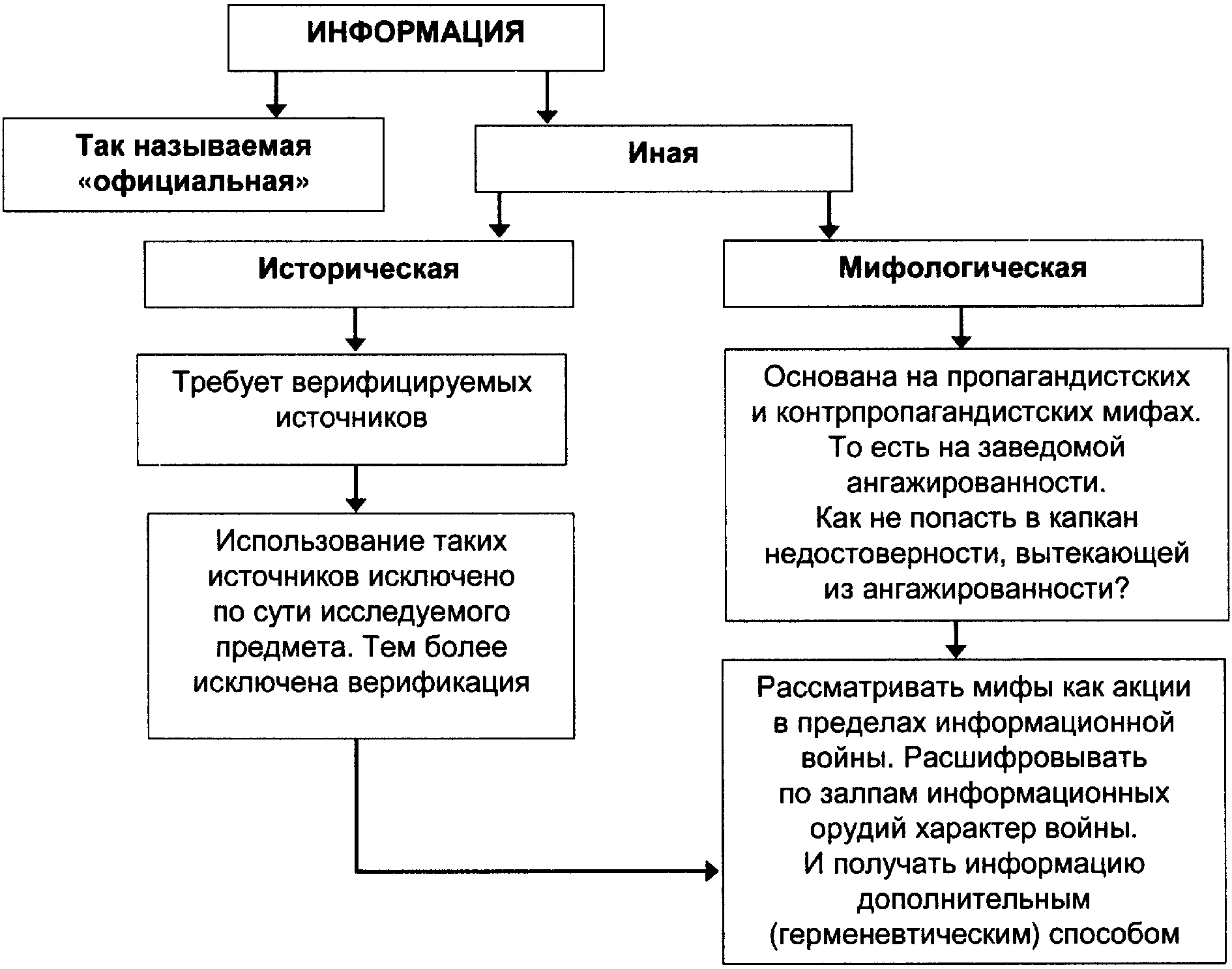 Рис. 8 Герменевтика информационной войны имеет решающее значение. Противники, обмениваясь информационными ударами, допускают утечки. Иногда (и надо понимать, когда именно) они по определенным причинам используют средства массовой информации для разговора между собой на особом эзоповом языке. Эти случаи надо научиться вычислять и использовать. Причем с предельной корректностью. Даже в пределах дезинформационных (иногда говорят «активных») мероприятий противники должны задействовать какую-то дозу достоверной информации. Иначе «активки» не работают. Герменевтика информационной войны предполагает умение отделять зерна от плевел, а дозу достоверной информации, размещенную в «активке», от шлакового дезинформационного наполнителя. Кто-то путает сплетню с достоверной информацией. Этот «кто-то» должен заняться чем-то другим, а не исследованием элиты. Кто-то с негодованием отбрасывает сплетни. И этот «кто-то» также потерян для нашей неблагодарной профессии. Оставаться в рамках профессии может только тот, кто занимается герменевтикой мифов. Кто способен построить классификацию этих мифов. И в рамках каждого классификационного элемента использовать те процедуры, которые позволяют выделить в мифе ценные (пусть даже и неоднозначные) зерна истины. Потом надо с помощью сложных процедур снимать неоднозначность полученной информации. Такой труд крайне неблагодарен. Но только он позволяет добавить к так называемой официальной информации весьма нужные (а порой бесценные) информационные зерна. Здесь, кстати, следует расшифровать понятие «так называемая официальная информация». Речь идет не об апологетических высказываниях и сведениях, неизбежно сопутствующих действующим персонажам высокого статуса. Речь — о той скудной несомненности, которая в значительной части официализируема. О более или менее безусловных фактах жизненного пути (это редко мистифицируется, хотя в советский период приходилось сталкиваться и с мистификациями). О фактах, сообщенных официальными источниками и не вызывающих разночтений (тогда-то сняли, тогда-то назначили). И о других — сухих и трудно оспариваемых — сведениях, содержащихся в различных (чаще всего официальных — отсюда и название) источниках. Канал № 4 — политология элиты. Элиты борются за власть. Точнее, за позиции на игровой доске. Эта борьба за власть иногда осознается участниками, а иногда ведется ими автоматически. Но она всегда ведется. И именно превращение персонажа (в том числе не осведомленного об этой борьбе) в фактор борьбы — в значительной степени содействует осуществлению искомой «элитной трансформации». Канал № 5 — экономика элиты. Нет элит вне борьбы за ресурсы. В том числе и ресурсы материальные. Это могут быть очень разные ресурсы. Иногда скрываются не только типы осуществляемых действий, но и заинтересованность в ресурсах как таковых. Но рано или поздно нечто в этом смысле проявляется. Элитная экономика очень часто носит теневой характер. Но без ее учета реконструкция элитного феномена и игровой фигуры никогда не будет полной. Канал № 6 — специальный. Нет элит вне задействования элитного спецслужбистского фактора. В какой степени и как элиты задействуют этот фактор? Мера достоверности ответа на этот вопрос может быть разной. Но в реконструкции это должно быть учтено обязательно. Канал № 7 — идеологический. Элита обязательно будет участвовать в войне за смыслы. Такое участие может носить прямой и косвенный характер. Но там, где идеология, там открытость. А значит, и большая достоверность. Поэтому идеологической специфике всегда надо уделять самое существенное внимание. Канал № 8 — конфликтологический. Там где элиты — там конфликты. Там где конфликты — там и конфликтология. Опять же, специфическая конфликтология. Конфликтология, описывающая именно элитные конфликты, а не конфликты вообще. Жизнь элиты не сводится к конфликтам, но она существенно определяется ими. Конфликты могут быть антагонистическими и зондажно-компромиссными. Короткими и долгоживущими. Сущностными и тактическими. Они часто скрываются от общественности. Отсюда и сам термин «драка под ковром». У них есть ритмы, циклы, фазовые переходы. Все это надо учитывать при трансформации, которая здесь обсуждается. Канал № 9 — психологический. Психология элиты — это отдельная дисциплина. Между прочим, отнюдь не сводимая к обычной психологии. В рамках элитной психологии вводится, например, понятие ролевых матриц и ролевой преемственности. Иногда место в ролевой элитной матрице и ролевой преемственности определяет сущность того или иного персонажа гораздо больше, нежели его желания или даже его реальные действия. Специалисты говорят об элитном «ролевом роке». Без его участия мы не осуществим трансформацию. С другой стороны, сколь бы элитарен ни был игрок, он не может до конца изжить в себе человеческое. Он как-то себя выявляет — семантически, семиотически, интонационно, поведенчески. Все это позволяет реконструировать определенные характеристики персонажа и спроецировать их на плоскость элитных игр. Канал № 10 — силовой. Элиты редко вступают в прямую силовую конкуренцию. Но они очень часто используют конкуренцию косвенную. Датчиком, позволяющим измерить градус конфликта (а значит, и его содержание), является то, насколько открыто и интенсивно они используют силовой параметр. Когда глава Службы безопасности Президента Б. Ельцина А. Коржаков в 1994 году клал «лицом в снег» охрану бизнесмена В.Гусинского (при том, что охрана данного персонажа с элитной точки зрения значила больше, чем сам Гусинский), можно было замерить интенсивность конфликта элитных групп и спроецировать замер на плоскость крупной элитной игры. А значит, и предсказать дальнейшее развитие ситуации, включая начало первой войны в Чечне. Я мог бы продолжить рассмотрение каналов, по которым осуществляется «элитная трансформация». Метод был бы описан с еще большей подробностью и… и оторван от той реальности, ради понимания которой он создается. И как при таком отрыве (превращающем политически актуальное исследование в изысканную схоластику) определить хотя бы релевантность этой самой схоластики? Нет уж, лучше я подведу черту под методологическими детализациями, оговорив при этом, что многоканальная сборка в простейшем случае осуществляется в рамках теории систем. Что могут применяться и более сложные методы сборки, оперирующие квазисистемными образованиями (ризомами, диффузными структурами, сетями)… Что эта сборка активно использует все трансдисциплинарные инструменты — от структурализма и постструктурализма до теории хаоса… Выделив особую роль теории субъекта и теории проектирования во всем, что касается интегральных методов, оговорив, что все эти методы в любом случае апеллируют к теории рефлексивных нелинейных игр, я закончу краткий описательный теоретический экскурс. И перейду к еще одному слагаемому метода, без которого метод этот просто нельзя использовать. Я имею в виду этику. Есть медицинская этика. А есть этика нашей профессии. Медик без этики — чудовище. Аналитик элиты — тоже. Поэтому я просто обязан оговорить некий кодекс, без которого метод превращается в свою противоположность. Глава 3. Этика — или о том, как вы обязаны относиться к предмету Я только что эскизно описал, какими способами можно «создавать» предмет под названием «элита» и этот предмет исследовать. Конституирование предмета и описание метода называется гносеологией. Цель гносеологии — истина о предмете. Собираются первичные данные. Они классифицируются. Преобразуются. Потом выдвигаются гипотезы. Потом гипотезы проверяются на прочность с помощью определенных процедур (процедуры верификации). Прошедшие проверку гипотезы получают статус моделей или теорий. Для гносеологии все подлежит опредмечиванию. Любой человек, становясь исследователем, хочет докопаться до все более глубоких уровней понимания того, что он исследует. И в этом смысле он абсолютно аморален. Отсюда классическое разделение на истину (гносеология), красоту (эстетика) и справедливость (этика). А также отрицание каких-либо пересечений между тремя этими сферами критериальности и вытекающей из критериальности деятельности. Ученый — это ученый. Судья — это судья. Художник — это художник. Прекрасное не обязано быть истинным и справедливым. И так далее. В этом смысле профессиональная этика крайне проблематична. Ученый считает, что у него есть одна-единственная задача: добыть истину о предмете. И что методы, которыми он добывает истину, делятся только на эффективные и неэффективные. Любое же другое деление означает вторжение в его гносеологическую сферу неких посторонних соображений. Сегодня, говорит ученый, вы станете навязывать мне этические соображения. Завтра — идеологические. В итоге вы займетесь новой разновидностью инквизиции. Что говорил по этому поводу доктор Менгеле, экспериментировавший в фашистских концлагерях над узниками? Он говорил, что он ученый. Что он добывал некое знание о человеке, используя экспериментальные методы. Что его экспериментальный материал все равно был бросовым (люди, находящиеся в лагерях смерти, подлежали уничтожению). Что тем самым он придал какой-то смысл мучительному существованию этих людей. Они все равно бы умерли. Без всякого блага для человечества. А так они умерли, принеся человечеству новые знания, а значит, и новые возможности. «Этот человек был обречен, — говорил доктор Менгеле. — И он погиб бы все равно. Мера зла была бы та же самая, и она определялась не мною… Но я клал на другую чашу весов некое добро. Данный человек погибал, а полученные знания могли бы спасти потом тысячи больных. Как вы смеете осуждать меня за это?» Но ведь его осуждали. А он и ему подобные не склоняли головы, а требовали объяснений. «Почему, — спрашивали они, — вы не осуждаете тех, кто делал ядерное оружие? Или химическое оружие? Ведь определенные газы могут использоваться только для уничтожения людей. Другого смысла их исследования не имеют». Разделение всего на истинное, справедливое и прекрасное — эффективно и одновременно чудовищно. Оно лежит в основе тысячелетий человеческого прогресса. И оно же может погубить человечество. Человечество постепенно это осознает. Оно осознает, что не может беспредельно раскрепощать обособленное от всего остального познающее начало. Что это начало должно быть поставлено в какие-то рамки. Даже тогда, когда речь идет об отношениях между исследователем и природным объектом. Как минимум, этот исследователь своими исследованиями не должен истребить всю природу ради понимания ее сути. А он вас спросит: «Почему это, собственно, я не должен ее истребить?» Вы ответите, что он сам и его собратья являются природными существами. И что истребление природы ради познания убьет человечество, которому это познание призвано служить. А он вам ответит, что познание служит не человечеству, а истине. И, строго говоря, будет прав. Он будет прав по отношению к самой фундаментальной процедуре, разделившей все на эти слагаемые. И он вам скажет, что, наверное, надо делить иначе. Но поскольку никто не знает, как, а этот метод разделения освящен веками и тысячелетиями, то вы должны отойти в сторону и не вмешиваться. А когда-нибудь сформируется новая структуризация этого самого «всего». И он, ученый, будет тогда иначе себя вести. Вопрос этот настолько масштабен и актуален, что попытка обсуждать его в исследовании, имеющем вполне отчетливые прикладные рамки, вряд ли уместна. Такой вопрос можно только зафиксировать. И использовать для прояснения существа нашей конкретной исследовательской ситуации. Существо же это состоит в следующем (рис. 9). Итак, есть исследователь (элемент А) и исследуемое (элемент Б). Есть два типа отношений между А и Б. В рамках первого типа отношений исследователь связан одним обязательством — раскрыть истину об исследуемом. В рамках второго типа отношений у исследователя есть другие обязательства перед исследуемым. А также перед самим собой. И так далее. Что это за обязательства? И как они могут быть классифицированы? 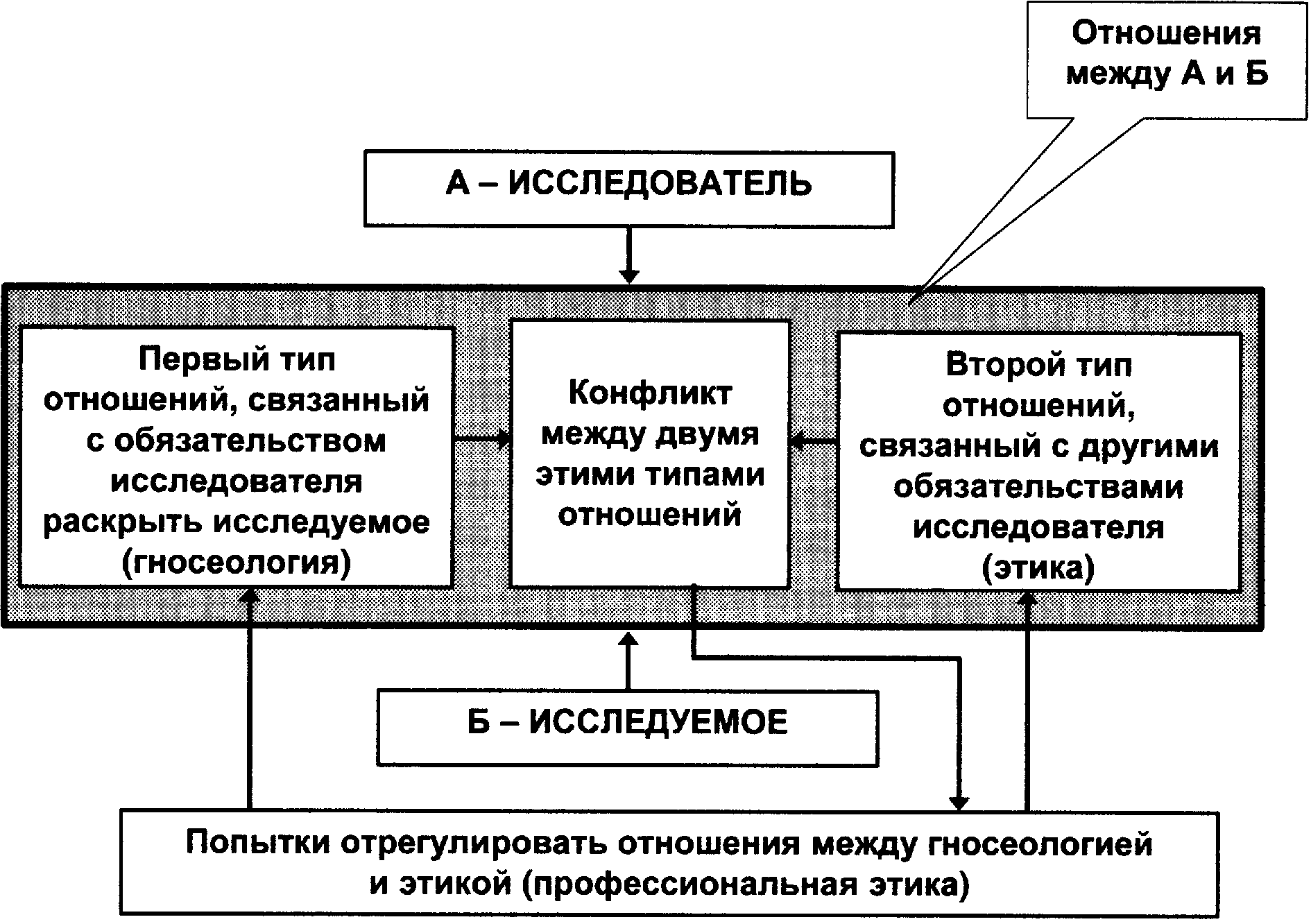 Рис. 9 Тут все зависит от предмета. Одно дело, если предметом являются газовые испарения или минералы. Но если предметом становятся не камни, не крысы, а люди? Там, где предмет — люди, уже «совсем нельзя» ограничиваться лишь обязательствами первого типа, хотя они носят неснимаемый характер. Если предмет исследования — люди, появляются другие обязательства. Да и вообще коллизия предмета перестает иметь абсолютный характер. Хорошо, если исследователь вы, а объект исследования про это не знает. Или не может с вами каким-то образом поступать, оказывая обратное воздействие на ваше исследование. Только тогда он объект! А если он может это сделать? Тогда возникает другая сущностная (если хотите, гносеологическая) коллизия. У вас уже есть не отношения между субъектом и объектом, а отношения между двумя субъектами. Это отношения совершенно другого типа. Вся процедура исследования перестает быть наукой. Она превращается в аналитику игры. В нашем случае — аналитику элитной игры (рис. 10). 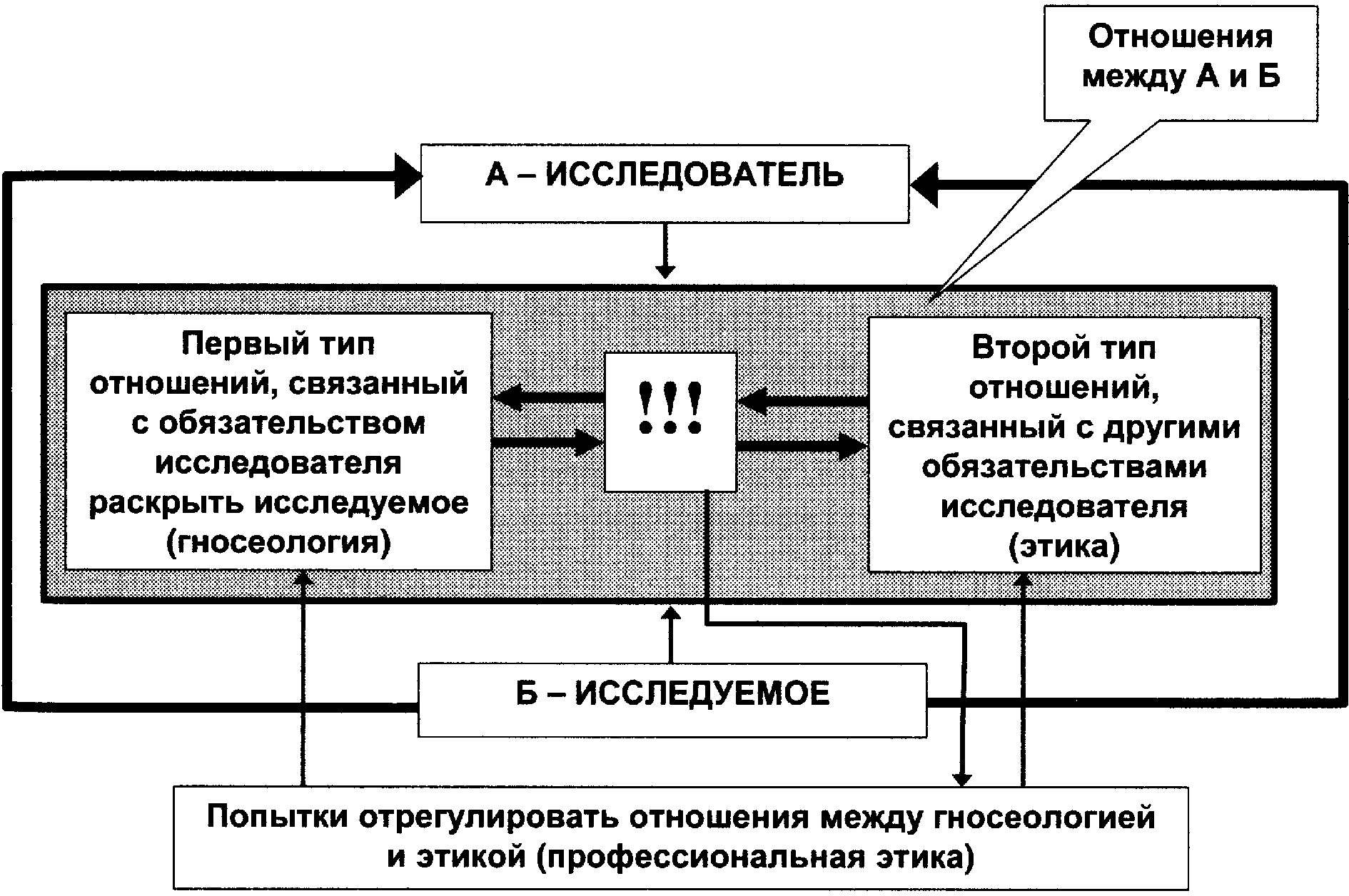 Рис. 10 Итак, мы видим, что наш метод предполагает не только обычные конфликтные отношения между этикой и гносеологией, но й более сложные отношения. При которых исследуемое оказывает огромное давление на исследователя, ибо ведет встречную рефлексивную процедуру. Это обстоятельство трансформирует связи между этикой и гносеологией. Гносеология становится частью этики. А этика — частью гносеологии. Насколько важны все эти утверждения для достижения прикладных результатов? Мне кажется, что они носят принципиальный характер. Прежде всего, они делят саму этику на две части. Одна из них — это, так сказать, нормальная этика. В рамках этой этики исследователь должен быть регламентирован с точки зрения правил вопрошания исследуемого. Но есть и обратная процедура. Когда исследуемое (если оно носит столь высокосубъектный характер) имеет право задавать вопросы исследующему. Это право на вопросы абсолютно абстрактно. И в этом своем абстрактном качестве оно равносильно обязательности вопроса, который исследователь задает самому себе: «Кто ты такой, чтобы это исследовать?» «Кто ты такой?» — это вопрос о роли, о позиционировании, о месте и о многом другом. В пределе этот вопрос сразу же выводит за рамки изначального расчленения на гносеологию, этику и эстетику. Исследуемое настолько субъектно, что имеет в каком-то смысле право на статус таинственного. И в этом смысле оно сразу становится Сфинксом. А исследующий — Эдипом. В коллизию возвращается тот самый миф, который старательно изгонялся. Ведь именно ради такого изгнания мифа осуществлялось само расчленение на гносеологию, этику и эстетику. И вот теперь исследуемое задает вопрос: «Кто ты такой? Каково твое имя?» Вопрос об имени превращает этику в метафизику. В принципе этика не требует ни религии, ни тем более метафизики. Человек может быть нравственным и не верить ни в бога, ни в высшие («эгрегориальные») силы. Но как только встает вопрос об имени, светская этика оказывается бессильна дать ответ на этот вопрос и тем самым она, желая дать ответ, должна адресоваться к метафизике и в каком-то смысле становиться ею. А поскольку мы не хотим подобного превращения, ибо оно полностью затмит собою искомые прикладные результаты, то мы будем говорить о метафизической этике, экзистенциальной этике и так далее. И это первый тип этики, сопрягающий исследующего и исследуемое. Второй тип этики (профессиональная этика в узком смысле слова) уже регламентирует более привычные вещи. Собственно обязательства исследующего по отношению к исследуемому. Впрочем, как мы увидим, и эти обязательства носят глубоко ненормативный характер. Но мне сначала хотелось бы обсудить все-таки первый (и наиболее сложный) тип этики. Я называю ее этикой самоопределения (рис. 11). 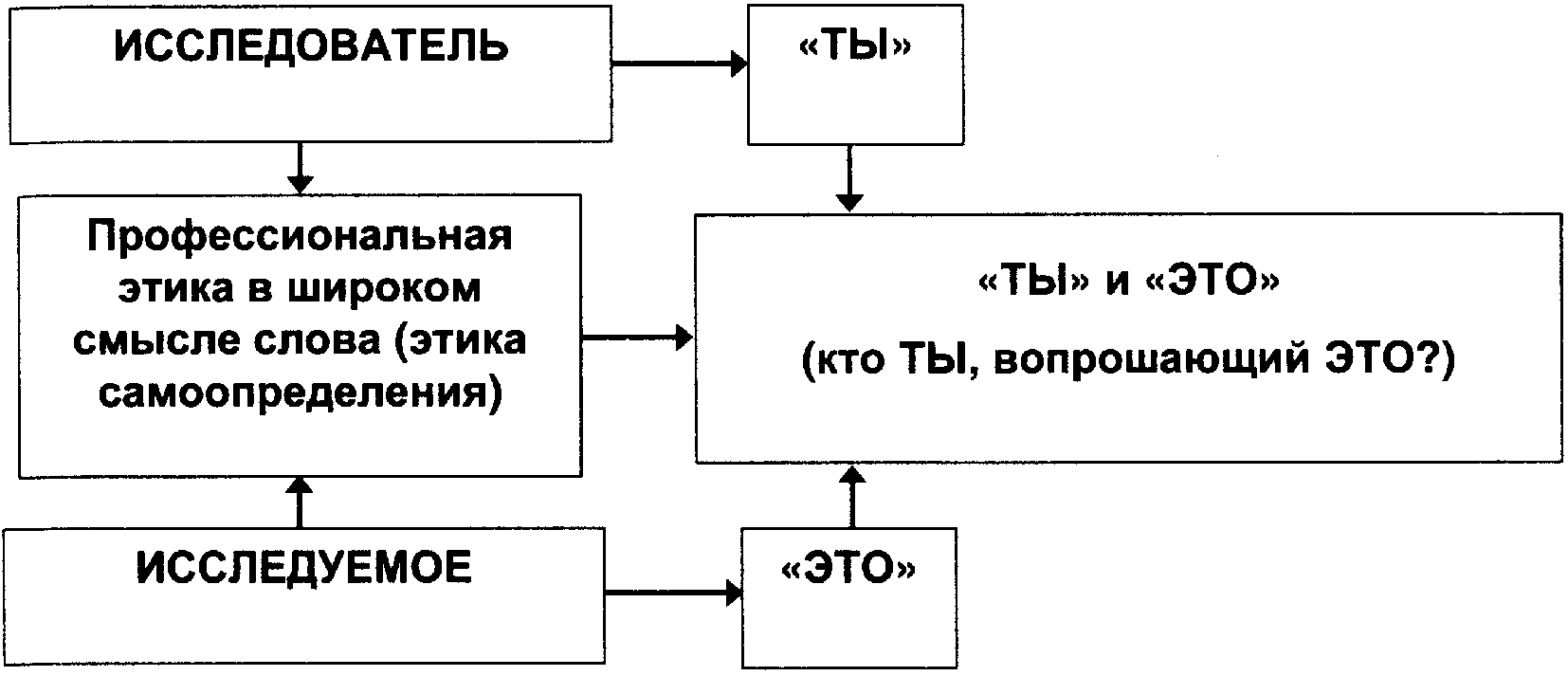 Рис. 11 Профессиональная этика в широком смысле слова — это этика самоопределения. Не долженствований по отношению к предмету, а долженствований по отношению к самому себе. Если хотите — эти долженствования по отношению к самому себе можно называть миссией. В конце концов, сейчас даже в крупных корпорациях все говорят о «mission». Что там они говорят, это отдельный вопрос. Я лишь хочу указать на то, что это перестало быть сферой сугубого пафоса. А если даже она и является таковой — что делать? Итак, этика самоопределения — это, в каком-то смысле, метафизическая, экзистенциальная этика. Этика собственного «имени». Она превращает предмет в личностный контекст. И, осуществляя контекстуальное давление на твое «я», вопрошает о смысле деятельности. Поскольку сама сфера самоопределения — это сфера пафоса, то вопрошания должны быть очень грубыми. Иначе все станет нестерпимо сладким и пошлым. Детская уличная поговорка гласила: «Двое дерутся — третий не лезь!» И это совершенно справедливо. А зачем лезть-то? Идет элитный конфликт. Ты-то в нем кто такой? Ты хочешь встроиться в притягательную для тебя элиту, обсуждая внутриэлитный конфликт, ты хочешь встать на чью-то сторону? Ты хочешь «развести», подливая масла в огонь? Зачем вообще ты этим занимаешься? Есть люди, занимающиеся подобными вещами очень абстрактно и осторожно, но все равно вздрагивающие при каждом телефонном звонке. Однако эти люди хотя бы делают академическую карьеру. Они становятся докторами наук, например. Ездят на конференции. Делают доклады. Ты отказался от академической карьеры тридцать лет назад. Хотел бы ты этой карьеры — давно бы стал академиком и необязательно для этого лезть во все тяжкие. У тебя есть способность к абстрактному мышлению, ну и рассуждай абстрактно. Тебе хочется опасности? Займись воспитанием тигров или крокодилов. Это тоже опасно. Или карабкайся по вертикальным скалам. Мало ли занятий, при которых адреналин выделяется, но уж не столь роковым способом? А главное — зачем ты во все это лезешь? Другие, например, считают, что они разоблачат наркобаронов, в этом их пафос. На самом деле они заказным образом «наезжают» на тех, кого им «заказали». Но опять же — это деньги… и социальная роль… и ощущение миссии: дескать, «вор должен сидеть в тюрьме». Но ты и от этого отказываешься. Может, ты хочешь участия в наркотрафике? Нет, ты не хочешь. А чего ты хочешь? Чего? Отвечаю. Предположим, что удержание власти требует консолидации элиты. А ее нет. Что будет тогда? Да что угодно. Кровавая бойня, крах государства. Я — гражданин этого государства. Может ли меня это не волновать? Имеют ли право субъекты конфликта восклицать: «Это сугубо наше дело, есть ли у нас раскол!»? Если бы две элитные группы находились на необитаемом острове, то раскол элиты и конфликт элитных групп могли бы волновать только сами эти группы. Или же какого-нибудь Даниэля Дефо, желающего описывать элитную «робинзонаду». Но войны Алой и Белой Розы унесли с собой значительную часть населения тогдашней Англии. То же самое — о других элитных конфликтах самых разных времен. Разве элитный конфликт, в котором разыгрывалась «карта» под названием «Распутин», не обернулся исторической катастрофой? Скажут: «Дела давно минувших дней». А 1996 год? 1998-й? Скажут: «Это было до Путина». Отвечаю. Историческая заслуга Путина в том, что он хоть отчасти сдержал регресс. СДЕРЖАЛ, а не ПЕРЕЛОМИЛ. Если бы Путин не сдержал регресс хоть отчасти (например, в той же Чечне), России бы уже не было. И никто не хочет умалять его заслуги. Но есть то, что есть: регресс НЕ ПЕРЕЛОМЛЕН. И что такое в этой ситуации конфликт элит? Ведь не я его выдумал! Я лишь пытаюсь осмыслить этот конфликт с позиций Большой Игры. Война элитных спецслужбистских кланов — что это? Что это за кланы? Чем обусловлен конфликт между ними? Интересами? Ценностями? Транснациональным контекстом? Как, не понимая устройства ЭТОГО, можно повлиять на происходящее? Это, скажем так, вопрос-максимум. А вопрос-минимум — как, не понимая устройства ЭТОГО, заниматься политологией, общественными науками? Если ЭТО доминирует надо всем остальным? По сути, речь идет о тех же вопросах, которые побудили меня заниматься элитой много лет назад. Сумма этих вопросов и представляет собой этику самоопределения. То есть ответ на вопрос о соотношении между ЭТИМ и ТОБОЙ. ТЫ можешь не хотеть быть внутри ЭТОГО. В узком смысле слова, ЭТО может быть ТЕБЕ вовсе не интересно. И даже противно. Но если ЭТО является источником беды, угрожающей тому, что ТЕБЕ предельно дорого, то ТЫ станешь заниматься ЭТИМ. А что делать-то? Самоустраняться на том основании, что ТЫ не внутри ЭТОГО? Относиться к ЭТОМУ по принципу «чума на оба ваших дома»? Петь по поводу ЭТОГО с упоением или тоскою: «Небоскребы, небоскребы… А я маленький такой!»? Спросят: «Зачем ЭТО исследовать, если на ЭТО нельзя повлиять?» Отвечаю: «Так не бывает. Если ты можешь ЭТО исследовать адекватно его сути, если ты можешь выявить внутреннюю структуру и динамику ЭТОГО, то ты можешь и повлиять. А можешь и не повлиять. У тебя будет шанс, а как ты им воспользуешься — зависит от очень многого. Но шанс вмешаться обязательно будет. И будет он только тогда, когда ты как следует разберешься. Если отсутствие вмешательства гарантированно порождает беду, а у тебя есть шанс на вмешательство, то, как бы мал ни был этот шанс, ты должен его использовать до конца». Так я понимаю долженствование. А кто-то может понимать его иначе? Интересно, как? Ну, ладно… Долженствование… Что дальше? Дальше сдержанность и скромность, скромность и сдержанность. Иначе все превращается в шутовство самого худшего типа. И, увы, я вижу, как это шутовство начинает заполнять те социальные ниши, которые в любом кризисном обществе (а наше общество именно такое) предназначаются для другого. Экзистенциальная этика (а именно о ней идет речь) не существует в отрыве от экзистенциальной же философии. Эта философия основана на понятиях «серьезность» и «ответственность». Это, между прочим, очень непросто. Серьезность предполагает отсутствие мальчишества. И точное понимание своего места в процессе (рис. 12). Ты — рядовой гражданин, частное лицо. Над тобой — законно избранный национальный лидер. Рядом с ним — его команда (ареопаг). Если ты теряешь дистанцию и, тем более, пытаешься бегать рядом с этим «ареопагом», то ты — этот самый шут. Мальчишка с гонором. Муха, которая хочет сказать: «И мы пахали!» Ты хочешь противостоять чему-то губительному? Будь серьезен и скромен. Но — коль уж ты полез в такую профессию — БУДЬ серьезен и скромен. БУДЬ!!! 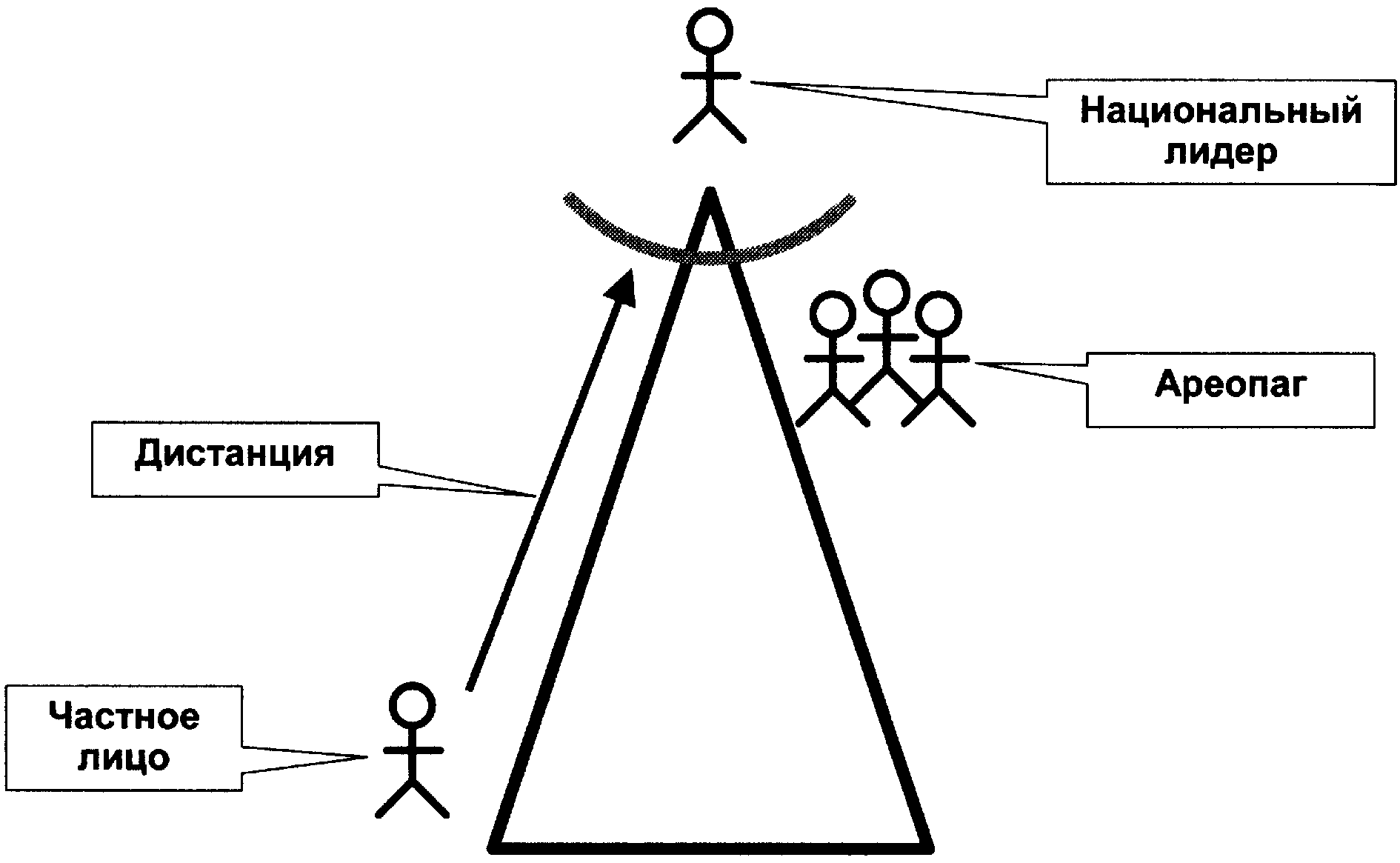 Рис. 12 А что значит быть? При такой-то расстановке, которую ты сам только что описал? Источник бытийности — в изображенной мною картине. Точна ли она? Если да, то источника нет. Но ведь в целом-то она такова! Значит, есть какая-то деталь, не учтенная этой картиной. И ее надо учесть, ибо в ней источник бытийности. Что же это за деталь? Политический «Олимп»… Да, он реален и несомненен… Но есть ли что-то над ним? Над этим самым «Олимпом», на который вознесены соответствующие лица… Как дать ответ? Это ведь совсем непросто и с научной, и с политической точки зрения. Опыт общения с «олимпийцами» самого разного рода, полученный мною в 80-е и 90-е годы, говорит, что люди этого типа (как в России, так и в мире) крайне болезненно воспринимают любые картины, в которых что-то есть НАД их «Олимпом». Неважно, как называется это «что-то». Хуже всего, если речь идет о какой-то волевой сущности. Но даже если это не волевая сущность, а что-то другое — все равно неприятно. Потому что ты на «Олимпе», а тут — причем над тобой — еще какие-то непонятные «облака». «Облака плывут… Облака…» Куда плывут? Зачем плывут? Почему плывут? У Галича так вообще как-то все неполиткорректно… «В милый край плывут, в Колыму…» «Облака плывут в Абакан…» А в общем-то, куда бы они ни плыли, все равно неприятно. Первый и решающий вопрос касается, конечно, «волящей надсущности». Есть ли она в нынешнем мире, такая действительная над-воля? (рис. 13). 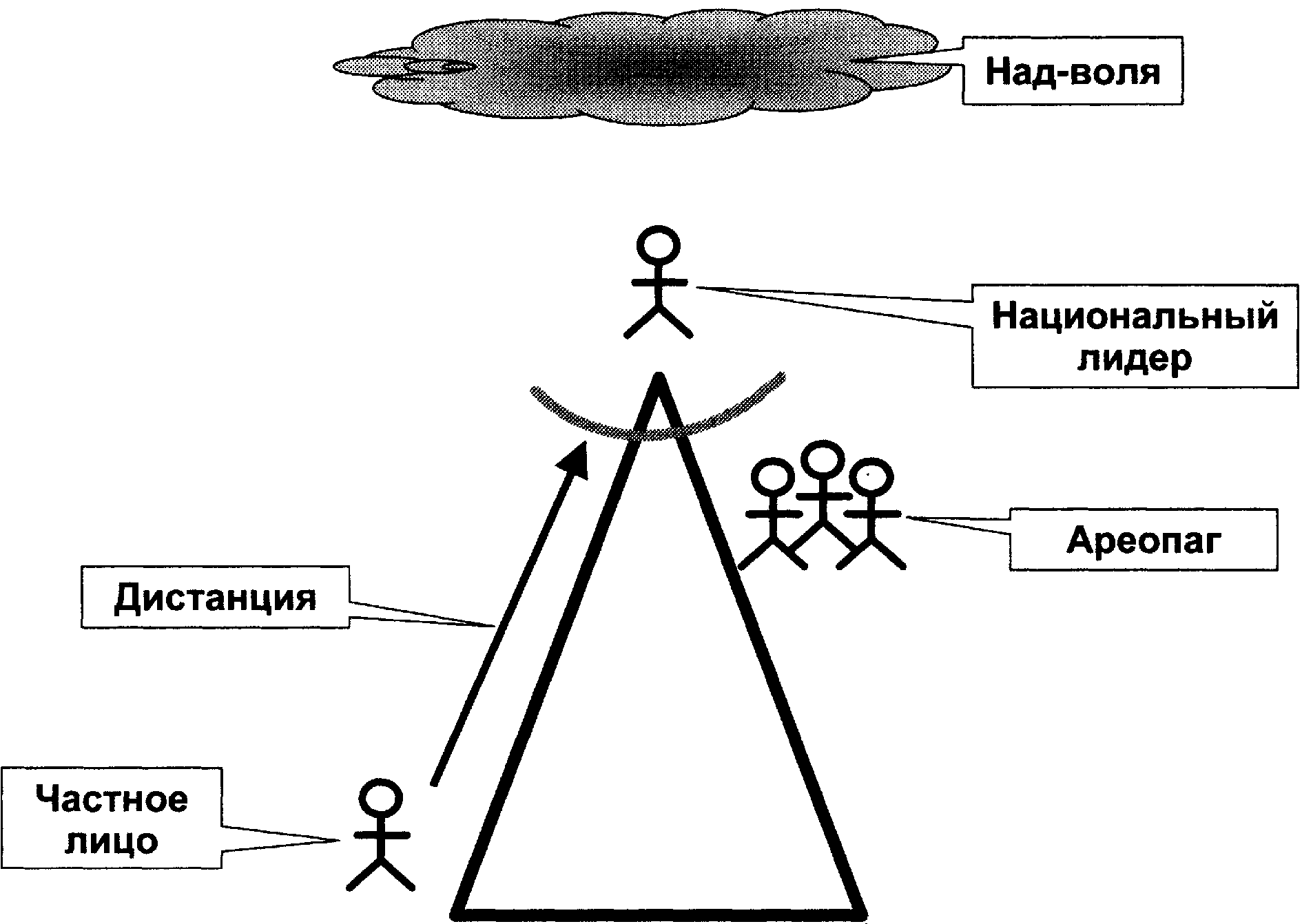 Рис. 13 Любой мальчишка, научившийся бойко писать аналитические статьи полуграфоманского уровня, вам распишет эту волю «от и до». Расскажет, как устроена мировая закулиса и что она вытворяет. А любой национальный лидер вам скажет: «Да пошла она подальше, ваша закулиса! Я пашу-пашу — и нет ее вовсе. Всё разруливают очень земные, несовершенные люди». Поверьте мне, это не наша отечественная проблема. Джордж Буш, Ангела Меркель, Гордон Браун или Николя Саркози так же болезненно воспринимают любые картины, в которых хотя бы косвенно фигурирует какая-то над-воля. Не зря это все называется «конспирология». В этом и впрямь есть и мальчишество, и оскорбительность. И, главное, несерьезность. Но если сейчас, по прошествии 22 лет, в течение которых я активно соприкасался с политикой, меня спросят: «Существует ли реальное облако над-воли над Олимпом?» — то я скорее отвечу «да». Я буду сомневаться, я буду отвергать линейные схемы — всяких там масонов и прочее. Но я считаю, что проектная воля есть. И что она в какой-то степени управляет миром. Я не берусь указать, в какой степени. И уж точно знаю, что не на 100 процентов. Но что-то такое есть. И без учета этого «что-то» можно долго не ошибаться, а потом один раз ошибиться. И это будет иметь катастрофические последствия. Но даже если этого нет, то есть еще другое «облако». Вы можете отрицать проектную волю как фактор формирования реальности. Об этом идут бесконечные споры. Я участвую в них, повторяю, более 20 лет. Я много раз спрашивал, как может не быть этой воли хотя бы в виде воли могущественных транснациональных экономических субъектов? А мне отвечают: «Видели мы, видели, как эти могущества гнутся перед главами государств!» Ну, что сказать? Что «оба правы»? Что есть другая воля? Что никуда не делись проектные субъекты, которые хотят реализовать ту или иную форму мироустройства? Что они не «скурвились», не разменялись на гедонизм? А мне ответят: «А если разменялись? А если скурвились?» Короче, это долгое обсуждение. В каком-то смысле оно стало делом моей жизни, и потому я понимаю, насколько оно долгое. И понимаю тех, кто это отрицает. Но процессы-то отрицать вроде бы совсем невозможно! И если вы взялись заниматься процессами, заниматься ими как скромный гражданин и исследователь, то вы обязаны быть и на земле (понимая место и дистанцию и не впадая в мальчишество), и в этом процессуальном облаке (рис. 14). 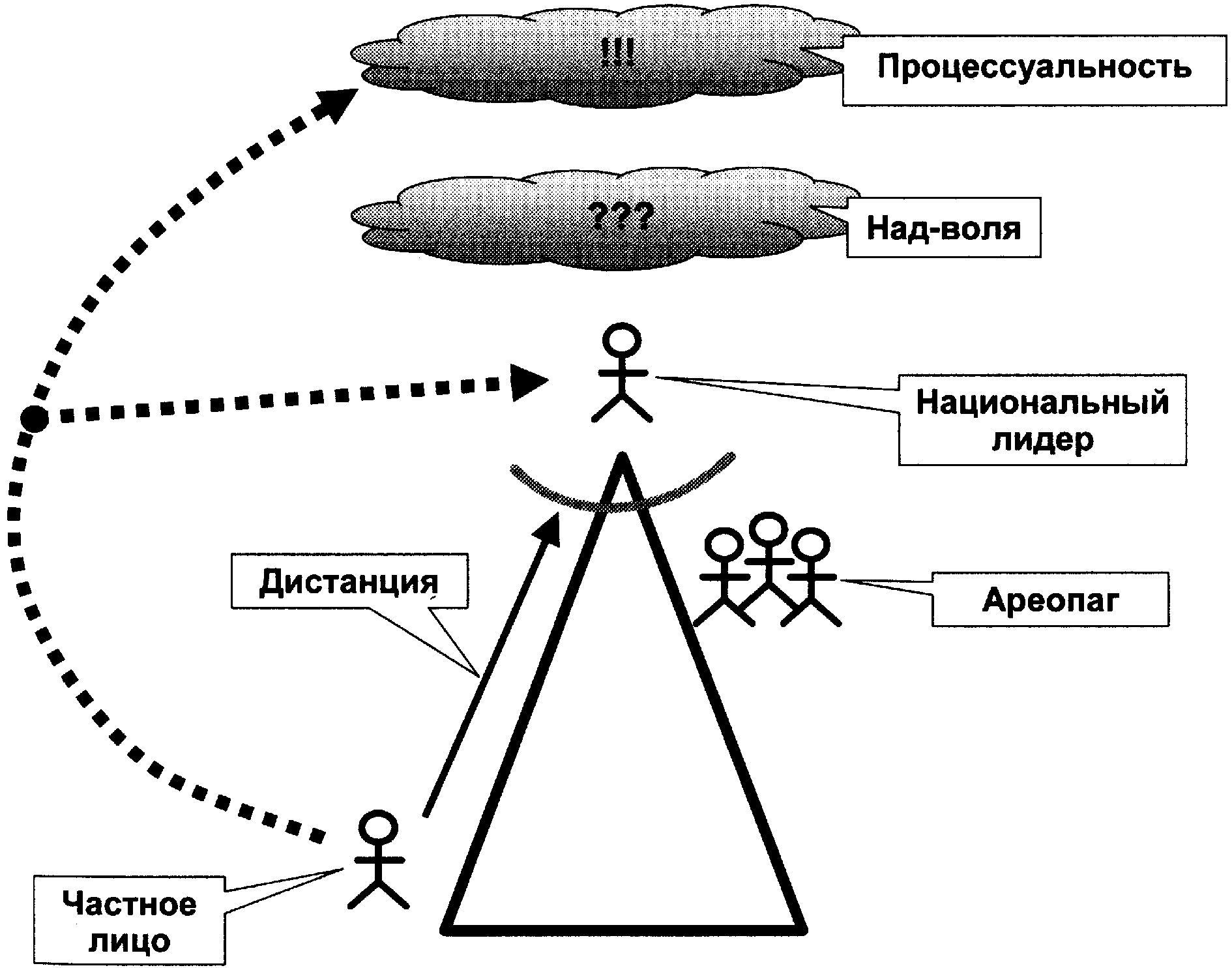 Рис. 14 Тут сразу возникает вопрос: «Вы что, занимаетесь ревизией дистанции?» Ответ очевиден: облако ею занимается, а не человек. Метеоролог, изучающий облака, — не Господь Саваоф. Но если он не будет изучать облака, они, как минимум, станут источником метеорологической угрозы. А как максимум… Другие ведь не перестанут облака изучать и заниматься метеорологией разного рода. Политической в том числе. И мы, наконец, знаем, что есть и такое понятие — «метеорологическое оружие». Пушкин не раз высказывался по сходному поводу в своих стихах. И в тех, которые касаются творчества и не связаны напрямую с политикой. Но косвенно — связаны («Пока не требует поэта к священной жертве Аполлон»). И в тех, которые аллегорически повествуют о подобной коллизии («Волхвы не боятся могучих владык»). И в тех, где все сказано напрямую, без экивоков, хотя крайне деликатно и уважительно («И истину царям с улыбкой говорить»). Процессы идут, и раскрывать их содержание надо. И с позиций определенного социального знания. И с позиций определенного опыта. Никакого надувания щек тут нет. Есть желание с предельной скромностью, предельным тактом и предельной отстраненностью указать на реальные риски, которые могут превратиться в беду. А беда эта — буду повторять еще и еще раз — коснется не только политического Олимпа, но и большинства наших граждан. Обсуждая это, я не хочу назидать. Я предлагаю к рассмотрению модели. В данном случае — модели конфликтов. Это моя профессия — конфликтология. И в каком-то смысле это неизымаемая компонента моего жизненного пути. Состояние элиты — это существенный фактор в устойчивости системы. Система — Россия. Одно состояние элиты — одна системная устойчивость, другое состояние — другая системная устойчивость. И как же этим не заниматься? Мне возразят: «Этика не может быть абсолютно абстрактной. То, что вы заявили, это идеология. А этика — это там, где конкретные люди». Что ж, готов согласиться с подобной позицией, поскольку люди в этике, о которой я говорю, тоже есть. Интересы человека — сложная штука. Есть интересы человека как такового, а есть интересы этого же человека как члена узкой или широкой группы, члена определенного класса, наконец, гражданина своей страны. Человек защищает свои интересы. Какие интересы он защищает и как? Человек может быть зашорен, зациклен на очень узком круге собственных интересов. В Верховном Совете РСФСР в 1993 году два влиятельных аппаратчика, приближенных к Хасбулатову, руководившему этим самым Верховным Советом, вели непримиримую аппаратную борьбу. Они тщательно просчитывали свои позиции: кто из них сколько времени провел в кабинете, кого когда попросили подежурить в приемной. Скажете — нормально, война элит. И впрямь нормально, но с одной оговоркой. Это происходило 29 сентября 1993 года, здание Верховного Совета был оцеплено колючей проволокой. В нем уже были отключены вода и электричество. Другой высокий чин в том же Верховном Совете кричал: «Меня назначил аж Съезд народных депутатов! И теперь меня никто не может снять! Потому что Съезд снова не соберут». Через четыре дня этот человек был в тюремной камере. Лица, участвующие в игре (а элитный конфликт является частным случаем игры), могут находиться с этой игрой в очень разных отношениях. Участие участию рознь. Лица могут создавать ситуации или реагировать на них. Они могут действовать стратегически или ситуационно. В их поле зрения может находиться вся картина или ее часть. Любому лицу всегда кажется, что оно участвует в игре именно как лицо. А оно может участвовать иначе. Игра может продиктовать лицу свои законы. Навязать лицу игровую роль или маску. Если бы не это обстоятельство, зачем книги писать? Рефлексиями этими самыми заниматься? В конфликте участвуют серьезные люди. Они все знают до тонкостей. И не за счет рефлексий (участь стороннего наблюдателя), а непосредственно, на собственном опыте (что Гуссерль и называл перцепцией, подчеркивая разницу между нею и рефлексией). Все так… Однако люди знают себя таковыми, каковы они есть. Игра делает их другими. Они сами могут не узнать себя в игровом зеркале. Но игра идет. И если не царит надо всем, то, по крайней мере, очень сильно трансформирует содержание происходящего. Одно дело, если люди просто дерутся. Другое — если дерущиеся находятся на платформе, которая куда-то медленно едет и на самом деле едет прямиком в пропасть. А дерущиеся так увлечены, что не ощущают этого движения. Да и вообще, ощутить медленное движение платформы легче со стороны. Является ли указание на факт движения платформы в пропасть нарушением этики или ролевых функций? А если платформа устроена так, что накал конфликта активизирует механизм сползания платформы в пропасть? Вообразите себе дрезину, на которой один дерущийся стоит на одном плече качалки, а другой — на другом. Чем чаще и активнее они толкают друг друга, тем активнее едет дрезина. А если к дрезине подцеплено нечто под названием страна? Что в этом случае этично, а что нет? Приведенные соображения не отменяют профессиональную этику. Ограничения на жанр описания элитных конфликтов остаются. Но не надо говорить, что описание неэтично вообще. Что же касается ограничений, то я давно уже выработал для себя некий моральный кодекс аналитика элиты. Что же это за кодекс? ПЕРВЫЙ ПРИНЦИП МОРАЛЬНОГО КОДЕКСА, О КОТОРОМ Я ГОВОРЮ, КАСАЕТСЯ КАЛИБРОВКИ ДАННЫХ. Профессионал всегда калибрует данные во имя успеха исследования. Но профессионал, имеющий дело с людьми, калибрует эти данные еще и потому, что в каком-то смысле калибровка позволяет ему защитить людей, которых он, видите ли, исследует. Тут — либо-либо. Либо ты аналитик элиты, либо пиарщик. Пиарщик с ходу заявит: «Как известно, такой-то элитарий сожительствует с инопланетянином и ворует для него в ресторанах серебряные ложки». Он при этом не скажет, откуда ему это известно. Он даже не сошлется на какой-нибудь «Компромат. ру», куда перед этим запихнет соответствующую анонимку. Он на то и пиарщик, чтобы продавать идиотам свой тухлый товар как истину в последней инстанции. Потому он избегает классификации данных. Все его данные, даже самые липовые, должны получать статус абсолютной истины без верификации. Иначе как продашь-то? Кодекс аналитика элиты не просто не позволяет аналитику стать пиарщиком (по крайней мере, на время исследования, а желательно и вообще). Такой кодекс требует от аналитика специальной морально-профессиональной гигиены против пиара. Аналитик элиты не только не имеет права становиться пиарщиком. Он, должен быть антипиарщиком в каждой фразе, каждом фрагменте своего текста. А что значит быть антипиарщиком? Как не только научно или не только этически, а именно комплексно, на уровне профессиональной этики, осуществлять «антипиарную гигиену»? В первую очередь, постоянно оговаривать все на свете. Прежде всего, тип получаемой тобой информации. Какова возможная классификация? Есть три класса данных, которые аналитик элиты использует и по отношению к которым он профессионально и этически обязан осуществлять калибровку, то есть указание на принадлежность данных к тому или другому классу. Первый класс данных — это факты («класс Ф»). Что такое факты? Такого-то числа такого-то года такое-то лицо назначено на такой-то пост. Это подтверждено официальной государственной информацией… Такого-то числа такого-то года подписан такой-то указ или такая-то официальная бумага с реквизитами. О наличии этой бумаги сообщили официальные источники. Вы сообщаете некоторые факты? Оговорите, что это факты. Вплоть до формализации, которая может показаться избыточной. Вот этот факт — Ф-1, этот — Ф-2. И так далее. И все это именно данные из одного и того же класса. А вот это уже другой класс данных. Какой же? Второй класс данных — это сведения («класс С»). Сведения — это почти что факты. Но это не совсем факты. Одновременно сведения — это совсем не домыслы. Это не слухи, не сплетни, не инсинуации, не реклама. Такого-то числа такого-то года такое-то лицо… Родилось, поступило в институт, проходило службу в армии, построило семью… То есть человек родился там-то и там-то. Имеет такой-то социальный генезис. Почему надо проводить границу между фактами и сведениями? Потому что сведения могут быть проблематизированы, а факты нет. Указ о назначении или снятии — это неоспоримый факт. А социальный генезис — это официальные сведения. Или сведения из других источников. Что если на самом деле человек проходил службу не в стройбате, как это где-то записано, а в элитных частях? Что если он не «тянул лямку», а проходил спецобучение? А записано в его анкете нечто иное. Или, к примеру, так называемое социальное происхождение («из крестьян», «из служащих»). В раннесоветскую эпоху по служебной лестнице могли двигаться только люди, имеющие «правильное» социальное происхождение. А были даже и «пораженцы» (имелось в виду поражение в социальных правах). Что если имярек скрыл свое подлинное социальное происхождение по этим, исторически обусловленным, обстоятельствам? В более позднюю эпоху имел значение так называемый «пятый пункт». Что если человек маневрировал в этом вопросе из тех же соображений, связанных с вертикальной мобильностью? Итак, сведения, в отличие от фактов, подлежат проблематизации. Но такими проблематизациями не следует злоупотреблять. Есть увлеченные проблематизаторы, любители указывать на то, что у того или иного лица могли быть мотивы для искажения сведений. Кто-то говорит о мотивах Ю. Андропова, связанных с советской регламентацией в вопросе об этническом генезисе. Кто-то говорит о мотивах В. Молотова, связанных с советской регламентацией в вопросе о социальном генезисе. Кто-то проблематизирует другие типы сведений. Например, задается вопрос: «Где данное лицо находилось во время Великой Отечественной войны? Что за пробел? Понятно, где находились Брежнев или Андропов. Но где находился, например, Черненко?» Могут быть и более сложные вопросы. Например, вопрос об участии и неучастии тех или иных советских военачальников в гражданской войне (Буденный участвовал в ней и его возвышение понятно, а каков канал вертикальной мобильности, например, Малиновского?). Сведения могут быть социально логичными и странными, противоречащими логике эпохи. Они могут быть пустыми и любопытными. Но это уже касается обработки сведений. В любом случае, сведения — это сведения. Биографические данные, санкционированные самим обладателем данной биографии, его официальными биографами, официальными источниками, знакомящими общество с этими биографическими сведениями, обладают достаточно высокой достоверностью и могут быть выделены в отдельный класс. Внутри класса есть элементы (С-1, С-2 и так далее). Можно рассматривать подклассы внутри класса «Сведения». Говорить об официальных сведениях. О достоверности неофициальных сведений, имеющих определенный источник. А также просто о достоверности сведений. В последнем случае аналитик элиты ничего не комментирует. Он просто говорит: «Я этим сведениям полностью доверяю». И точка. Аналитика элиты — такая вещь, в которой читатель многое вынужден принять на веру. Но для этого он, прежде всего, должен доверять личности самого аналитика. Иначе чтение работ по данной тематике — это пустая трата времени. Третий класс данных — это мифы («класс М»). Все, что не является фактами или сведениями, является мифами. Вам хочется считать нечто сведениями, но вы не всегда имеете на это право. Имейте мужество признать, что это все же миф. И сообщите об этом — дайте индекс конкретному элементу используемого вами информационного конгломерата. Вот этот элемент — Ф-4. Этот — С-5. А этот… он не из класса Ф, не из класса С. Он из класса М (М-1, М-2 и так далее). Признав это, вы не отбрасываете информацию. Не превращаете ее в мусор. Вы начинаете препарировать мифы. То есть выделяете в них значимое и незначимое. Но вы делаете это по законам, которые действуют в классе М, а не вообще в любом информационном массиве. Вы отбрасываете явную «туфту». А дальше подразделяете оставшееся на «мифы-активки» (информацию, требующую учета дезинформационной игры), «мифы-шифровки» (обмен информацией внутри «элитного междусобойчика» с использованием языка посвященных), «гипермифы» (то есть абсолютно зашифрованные послания, адресующие к каким-то источникам, причем трактуемым строго определенным образом). Мифы многолики и многомерны. Но они — мифы. Мифы, повторяю, — это не информационный мусор, который надо выкидывать на свалку. Но это и не то, что можно брать на веру. Это первичное сырье для особой («мифологической») герменевтики. У мифа есть цель, источник, адрес. Он организован в соответствии с определенными законами. Он несет на себе отпечаток авторского стиля. Мифы в чем-то как люди. Они могут быть колкими, сухими, поджарыми. И наоборот — жирными, расплывчатыми. Они аранжируются какими-то красотами или избегают их. Мир мифов — это отдельный и очень важный мир. Но прежде, чем начать с ним работать, надо отказаться от соблазна, связанного с переносом какого-нибудь яркого М-45 из класса М в класс Ф или класс С. Такой соблазн нарушает профессиональную этику. Заповедь врача — «не навреди». Заповедь исследователя — «не солги». Неточно проведя калибровку данных или вообще не калибруя их, вы и солжете, и навредите. ВТОРОЙ ПРИНЦИП МОРАЛЬНОГО КОДЕКСА КАСАЕТСЯ не калибровки данных, а КАЛИБРОВКИ ВАШИХ СООБРАЖЕНИЙ. К какому классу относятся эти соображения? Вы нечто утверждаете? Вы делаете пометки на полях? Вы учитываете чужие домыслы? Вы высказываете странные и необязательные предположения (математики и физики-теоретики называют это «в порядке бреда»)? Но ведь они оговаривают: «В порядке бреда». При том, что их бред не может никак сказаться на судьбе кварка или молекулы. А вы сделали заметку на полях, приняли к сведению чьи-то домыслы, не оговорили статуса ваших соображений и… и проявили недопустимую небрежность по отношению не к кваркам и молекулам, а к людям. Два этих принципа морального кодекса очень понятны и благородны. Поэтому их можно было бы и не оговаривать, если бы эфир, полосы газет и журналов не были заполнены материалами, которые категорически нарушают эти очевидные принципы и при этом претендуют на аналитический статус. И все же я не стал бы так подробно обсуждать профессиональную этику, если бы она сводилась к двум вышеуказанным принципам. ТРЕТИЙ ПРИНЦИП ВСЕ ТОГО ЖЕ МОРАЛЬНОГО КОДЕКСА ЭЛИТНОГО АНАЛИТИКА ОТНОСИТСЯ К СФЕРЕ ПРИМЕНИМОСТИ ВАШИХ УТВЕРЖДЕНИЙ. Он прямо вытекает из характера утверждений. Калибруя данные и утверждения, вы тем самым калибруете их использование. Я называю этот важнейший принцип аналитики элит ПРИНЦИПОМ «НЕСЧИТАБЕЛЬНОСТИ». Что это такое? Журналист, проводящий расследование вообще, а особенно реализующий чьи-то конкретные «сливы», завершая публикацию, нередко пишет: «Прошу считать эту статью основанием для…» — ну, например, для начала официального прокурорского расследования. Журналист гордится этим. Он восклицает: «По нашим статьям (или передачам) возбуждено столько-то уголовных дел, осуществлено столько-то кадровых решений…». Это все — право журналиста. Конечно, он хочет, чтобы власть считалась с его материалами. Он измеряет свой рейтинг тем, насколько власть считается с его материалами. Это я и называю «считабельностью». Боб Вудворд очень хочет быть не просто «читабельным» (то есть влияющим на массы), но и «считабельным» (то есть влияющим на власть). Журналисты называют себя «четвертой властью». Не будем обсуждать, насколько это так. Но каждый, кто занимается элитной аналитикой, должен в начале и конце своего исследования писать: «Прошу НЕ СЧИТАТЬ мое исследование основанием для любых действий, осуществляемых в том мире, где есть следователи и судьи, репутации, администрации, суждения, решения и… и почти все остальное, слагающее обычную реальность. Ту самую, которая большинству человечества кажется единственной, всеобъемлющей». Аналитика элиты адресована только тем, кто столкнулся с невсеобъемлющим характером этой самой обычной реальности. Кто ощутил наличие за ее пределами некоего — более чем влиятельного и дееспособного — Зазеркалья. Кто понял, что в Зазеркалье действуют правила, весьма далекие от правил обычного мира. Но что игры, ведущиеся по этим правилам, могут решающим образом влиять на наш «обычный мир». Предлагаемое нами понимание Зазеркалья и его игр носит размытый (как кто-то скажет, «фундаментально проблематизационный») характер. В качестве единицы такого понимания выступает не утверждение, а проблематизация. Мы в принципе, по сути своего метода, не имеем права что-либо утверждать. Мы лишь указываем на парадоксы, несоответствия, странности. На какие-то дырки и щели, через которые втекает в обычный мир некая «зазеркальность». Мы можем ошибаться — и нередко ошибаемся — в частностях. Но тот, кому наш метод нужен, может с помощью него перейти черту, отделяющую обычный мир от элитного Зазеркалья. Что он будет делать, перейдя эту черту? То, что сочтет нужным. Мы не тащим его туда на аркане по проложенному нами маршруту. Мы учим технике вхождения в иной мир. И только. Обучая, мы предъявляем проблематизации. То есть некие схемы, которые ломают стереотипы привычного, обычного мира. Мы не называем эти схемы истинными. На основе нашего метода могут быть построены и более точные схемы. Но и они будут содержать в себе какую-то вопросительность. Оскар Уайльд сказал: «Всякое искусство совершенно бесполезно». Искусство игры никак нельзя назвать бесполезным. Потому что ошибка в игре может повлечь за собой что угодно, включая мировые войны. Могут ли наши публичные проблематизации превратиться в нечто другое — сходное, но более серьезное? Да, могут. Это сходное, но более серьезное называется стратегической разведкой. И используется для сопровождения Большой Игры. Стратегическая разведка в принципе непублична. Как сравнить ее с нашими публичными элитно-игровыми рефлексиями? Есть фехтование в спортивном зале. И есть дуэль. Фехтование в спортивном зале — это наша публичная аналитика элит. Стратегическая разведка отличается от публичной аналитики элит ровно в той степени, в какой дуэль отличается от фехтования в спортивном зале. Кто-нибудь становился дуэлянтом, не фехтуя в спортивном зале? Наши проблематизации обладают ценностью, но мы должны не просто оговорить, а вбить в голову читающего (и обучающегося тем самым), что есть два фундаментальных различия. Почти что противопоставления (рис. 15). Первое различие, как мы видим, — между игрой и войной. На войне есть свой и чужой, друг и враг, фронт и тыл. Игра основана на другом. Игра — это система шахматных ходов, производимых в другом пространстве с другой степенью терпеливости. У войны есть начало и конец. Победа и поражение. В игре все иначе. В ней иначе течет время, иначе строится взаимодействие. Свой может быть чужим, а чужой своим. События вековой давности — важными, а нынешняя острая ситуация — бросовой. 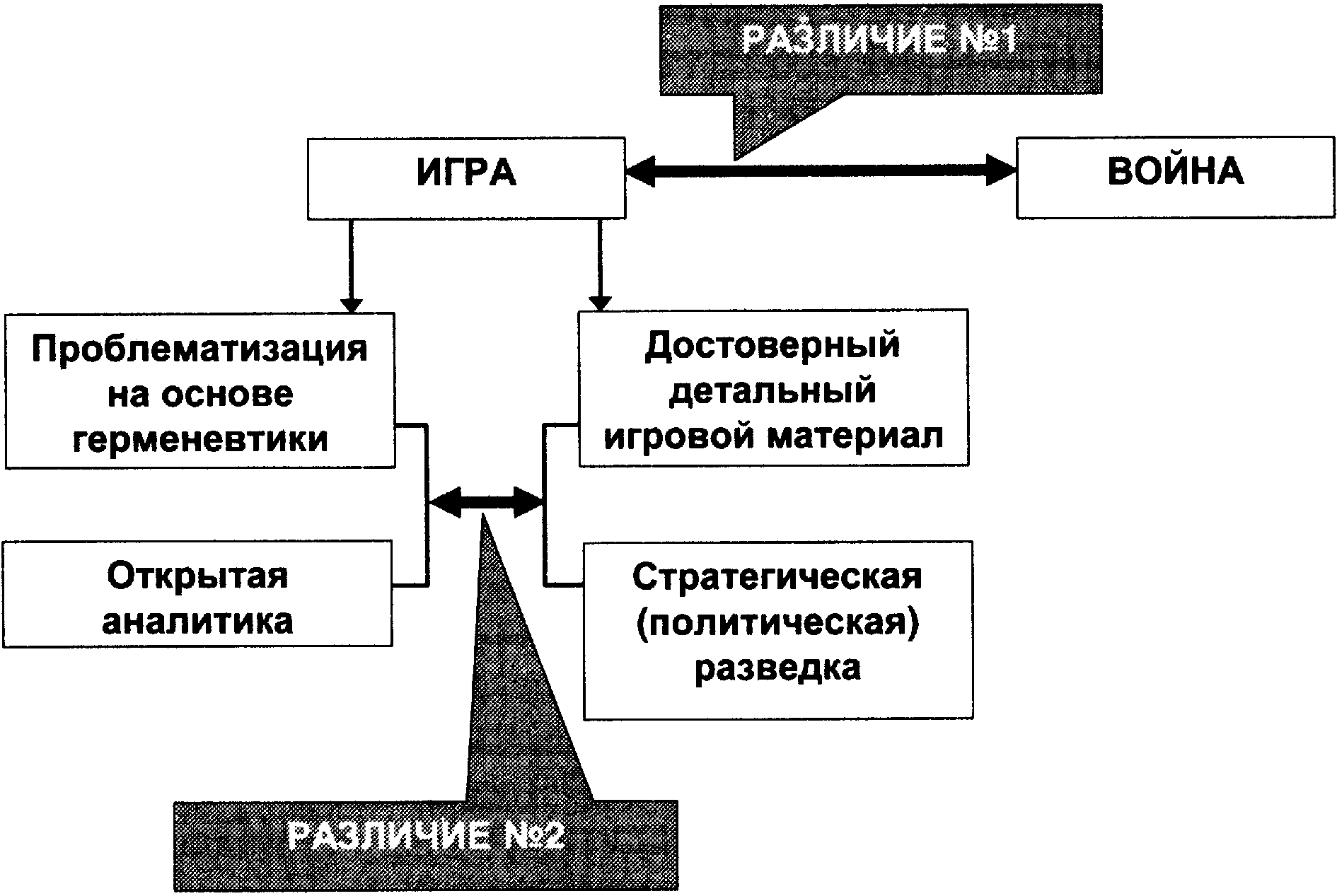 Рис. 15 Итак, есть пространство войны и пространство игры. Они сложно сопрягаются друг с другом. Игра может стать (или не стать) основанием для начала войны. Но она не есть война. Второе различие находится уже внутри самого игрового пространства. Его так же важно проводить, как и первое. Это различие между «игровыми прикидками» и окончательным планом игры. Для прикидок нужна открытая аналитика. В рамках ее феноменов и схематизмов прорабатываются общие закономерности. Но нельзя вести игру только на этой основе. После прикидок нужны детализации. Кроме общих закономерностей — беспощадно точные краевые и начальные условия. Чтобы их получить, нужны не прикидки, не герменевтика (точнее, не только они), а достоверный детальный игровой материал. Одна деталь может поменять план игры и расстановку фигур. Одна деталь! И нужно постоянно помнить об этом. Разница между нашими аналитическими эскизами и конкретной игровой диспозицией — огромна. Поскольку одна деталь может все решить, все изменить, все перевернуть с ног на голову и обратно. Мы здесь всего лишь разминаем судьбоносные вопросы. Никогда бы я не стал расписывать конкретные игровые диспозиции в книге, издаваемой для массового читателя. Даже если бы знал их — молчал бы, как немой. Но в том-то и дело, что игровые диспозиции не могут появиться до тех пор, пока не возникнет общая среда, пока не выявится сам принцип элитной феноменальности. А этот принцип не выявится без особых открытых рефлексий, без дискуссий, без этих самых «эскизов». Закрыть полностью метод так же глупо, как и полностью его открыть. А значит, необходимо дозированное открытие. То есть «эскизы». Причем — конкретные. Они не могут не быть конкретными! Среда элитной рефлексии не сложится, если я вместо конкретных имен буду называть X, Y, Z и расчерчивать абстрактные игровые схемы. А конкретные имена — это конкретные судьбы. Для меня — рефлексия, а для кого-то — жизнь. Как говорил когда-то мой знакомый, «это для тебя непроходимая тайга, а для кого-то звероводческий совхоз имени Ленина». И из моральных соображений, и из соображений метода (чтобы никто не путал «эскизы» с окончательной игровой фактурой) я должен постоянно повторять: ПРОШУ КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕ СЧИТАТЬ МОИ МАТЕРИАЛЫ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ЧЕГО БЫ ТО НИ БЫЛО, КРОМЕ ОБЩЕГО ПОНИМАНИЯ ИГРЫ. Это и есть позиция «несчитательства». Если у религиозных подвижников было «нестяжательство», то почему у меня не может быть «несчитательство»? Ну, так оно и есть. Попросят меня задиристые люди: «Конкретизируйте еще больше!» — в ответ я повышу градус абстрактности в десять раз. А про всю свою конкретику скажу, что она мне приснилась. Что у меня творческая фантазия разыгралась. В конце концов, все говорят, что я театральный режиссер. Так я не отказываюсь. Кстати, поскольку я не только театральный режиссер, но и математик, работавший с обратными задачами, с некорректно поставленными задачами, то я вдвойне должен так сказать. Потому что я-то знаю, что такое некорректно поставленная задача, обратная задача. Там, где есть обратная задача, всегда есть неоднозначность. И, ради бога, не надо аналитической безапелляционности. Почаще говорите «возможно», если хотите что-то понять. ЧЕТВЕРТЫЙ ПРИНЦИП ТОГО ЖЕ КОДЕКСА — «НИДАНЕТСТВЕННОСТЬ». Вас будут спрашивать: «Да или нет?» Не говорите ни «да», ни «нет». Тогда от вас потребуют: «Скажите, что вы не знаете!» Не соглашайтесь и на это. Квантовая механика научила науку подобной «ниданетственности». Еще раньше ее этому научила диалектика. Она сказала, что каждый раз, когда вы говорите о чем-нибудь, что оно есть или его нет, вы совершаете ошибку. Потому что то, о чем вы говорите, может быть и не быть одновременно. Диалектика ввела такую парадоксальную возможность в связи с принципом становления. Когда нечто не ограничивается своим сегодняшним состоянием. Оно содержит в себе еще и состояние завтрашнее. Да и сегодня… Если сегодня оно не находится в каком-то состоянии (раз и навсегда заданном), а переходит из одного состояния в другое, то чем оно является по отношению к этим двум состояниям? Объект А переходит из состояния X в состояние Y. Вас спрашивают, находится ли объект А в состоянии X? Потом вас спрашивают, находится ли объект А в состоянии Y? Если вы затрудняетесь ответить на оба вопроса, то, значит, вы не знаете, в каком состоянии находится объект А? Но это же не так! Просто вопрос поставлен неверно. Является ли Евгений Онегин ярким представителем российского петербургского дворянства первой четверти XIX столетия? Социолог скажет вам, что является. А если бы вы могли задать подобный вопрос Евгению Онегину? Или Одиссею? В их распоряжении не было классового метода, и они не знали, что принадлежат к каким-то там классам, социальным группам и так далее. Но это не значит, что они не принадлежали. Так принадлежали они или нет? Предположим, вы начнете разговаривать с этими героями. И объяснять им, что их поведение вытекает из их классовой позиции. А Онегин вам ответит: «Я лучше знаю, почему я убил Ленского. И все классовые интерпретации, которые вы мне навязываете, глубоко ложны. По крайней мере, я уж точно ими не руководствовался». Так руководствовался он или не руководствовался? И прав ли он, когда говорит, что ему лучше знать, чем он руководствовался? Откуда вам знать, кто чем руководствуется? И можете ли вы в принципе по любому поводу высказать суждение, согласно которому некто или руководствуется, или не руководствуется? Даже теоретически вы не всегда можете это сделать. Есть вполне практическая область, в которой действует эта самая «ниданетственность». То есть принципиальная невозможность сказать «да» или «нет». Прежде всего, конечно, она вытекает из неполноты наших знаний. Эта неполнота связана с самой природой знаний. Гуссерль, о чем я уже говорил выше, подразделял процедуры узнавания чего-либо на рефлексию и перцепцию. Рефлексия — это знание, добытое путем самых точных и корректных умозаключений. Ум при этом находится во внешней позиции по отношению к тому, что он изучает. Наблюдатель наблюдает ПРОЯВЛЕНИЯ наблюдаемого. Но не само наблюдаемое. Непосредственного доступа к наблюдаемому он не имеет. Рефлексия — это всегда обратная задача. И это делает рефлексивное знание принципиально неполным. Дополняется такое знание перцепцией. Когда вы не наблюдаете со стороны, а соприкасаетесь. Тем или иным способом оказываетесь внутри ситуации. Перцепция дополняет рефлексию. Но значит ли это, что рефлексия принципиально слабее перцепции и может заменять ее только тогда, когда перцепция невозможна? Это не вполне так. Конечно, близкий человек понимает логику поступков лица, к которому он близок, иначе, чем посторонний наблюдатель. Но нет человека, который был бы предельно близок к интересующему нас типу лиц сразу на всех уровнях, из которых складываются эти самые «лица». Если, например, лицо — высокий чин КГБ, то его жена или дети могут в каком-то смысле знать больше о логике поступков лица. Но только в каком-то смысле! Может быть, иной полнотой знания о мотивах и поступках такого лица обладает супердоверенный помощник, работающий с этим лицом несколько десятков лет? И это не всегда так. И наконец, абсолютной полнотой перцепции обладает само лицо. Оно все знает о причинах, побудивших его к тем или иным поступкам? И это тоже не всегда так. Вообразите себе диалог Наполеона с Тарле. Наполеон говорит Тарле: «Кто ты такой, чтобы говорить мне, почему я так поступил? Ведь так поступил Я! Это МОЙ поступок! И только Я знаю все о причинах, которые его породили!» А Тарле отвечает: «Ты не можешь обладать полнотой знания по поводу причин, которые находятся вне тебя и оказали косвенное давление на твои поступки. Эти причины раскрылись через столетие после твоей смерти. У тебя своя полнота знания, у меня — своя». Обучая начинающих аналитиков элиты разнице между перцепцией и рефлексией, я предлагал им рефлексивно ответить на вопрос: «Who is Mr. Kurginyan?». To есть, использовать для ответа биографические данные и предложенные мною же теоретические методы (социология элиты, культурология, теория игры и так далее). У меня есть родственники по материнской линии. Если всех их собрать воедино и представить меня как лицо, наследующее эту родовую сущность и заданное в своем поведении фактом этого наследования, то получится полная ахинея. Я-то знаю, что ни в каком буквальном смысле слова ничего не наследую. Такое наследование, может быть, было бы возможно, живи я пять столетий назад и являйся членом тогдашнего традиционного общества. Но я родился в 1949 году, вырос в советское время, не проявлял никакой склонности к самоидентификации через эту родовую сущность. Это я знаю. А посторонний мне аналитик не знает. Но я тоже кое-что могу и не знать. Я могу не знать, в какой степени данная родовая сущность оказала влияние на воспитывающих меня мать и бабушку, а значит, косвенно и на меня. Мало ли чего еще я могу не знать? Юнг скажет, что я не знаю своего родового архетипа, который автоматически действует — при полном моем отрицании этой самой сущности. И так далее. Теперь об отце. Что по этому поводу изобретет посторонний аналитик и что знаю я сам? Аналитик элиты и здесь обязан восстанавливать некий надперсональный (родовой, семейный, групповой, клановый) «индекс». Как без этого? Что получится? Мой отец родом из города Ахалцихе. И родители академика Джермена Гвишиани из города Ахалцихе. И у нас было много общих знакомых. Значит ли это, что мы «ахалцихский клан»? Для того, чтобы понимать, что это не так, нужно с абсолютной достоверностью знать структуру личности и особенности поведения моего отца. Он гордился своим происхождением, национальностью. Пока были живы родители, всегда ездил к себе на родину. Но он органически не любил кланов. И столь же органически чурался не соплеменников и родственников, а связей и отношений, порождающих какую-нибудь обязательность и даже приоритетность. Отцу — завкафедрой в вузе — все время казалось, что ему попросту «впарят» какого-нибудь балбеса в качестве студента. А он ненавидел «блат». И он благоговел перед преподавательской деятельностью. Я не хочу сказать, что мой отец хорош, поскольку он не интегрировался в некие лобби, а чей-то отец плох потому, что он интегрировался. Я всего лишь утверждаю, что степень подобной интеграции может быть определена только изнутри, на основе этой самой перцепции. И что она может колебаться от нуля до ста процентов — в зависимости от тонких и почти неверифицируемых нюансов семейно-психологического характера. Данное утверждение не снимает необходимости рассматривать надперсональные идентификационные возможности. Понимая при этом, чем ПОТЕНЦИАЛЬНОСТЬ определенной идентификации отличается от АКТУАЛЬНОСТИ этой идентификации. Потенциально я мог быть представителем «ахалцихского клана». А представителем «зангезурского клана» я быть не мог по определению: ни я, ни мои родственники не родились и не жили в этом регионе Армении. В еще большей степени я не мог бы быть представителем «пекинского клана». Если бы я занимался, например, школой Шаолинь, то я мог бы быть спортсменом, связанным с этой школой. Но я не мог бы быть ни китайцем, ни пекинцем. А представителем «ахалцихского клана» я мог бы быть, но… я им не являюсь. Соответственно, аналитик должен ввести клановую возможность в рассмотрение моей личности. Но — с соблюдением принципа «ниданетственности». То есть, не говоря по поводу моей клановости ни «да», ни «нет», и при этом оконтуривая то поле, в рамках которого возможна моя клановая привязка. Сохраняя одни возможности, он должен откинуть другие. Но именно в качестве возможностей! Воз-мож-но-стей! Какое он имеет право (как исследователь и как человек) представлять возможность (то есть потенциальность) как факт (то есть актуальность)! Это и есть путь к конспирологическому безумию. Делая определенные догадки, высказывая определенные предположения, я всегда буду исходить из принципа «ниданетственности». Назовите это еще осторожностью… Или невозможностью окончательных утверждений. В квантовой механике, например, вообще невозможны окончательные утверждения определенного рода. Электрон — это частица или волна? И то, и другое. Меня спросят о гносеологической ценности этой самой «ниданетственности». Мол, если утверждение о моей клановой причастности сделано неосторожным исследователем, исходя из недостаточной информации, то это еще не значит, что в принципе нельзя сделать правильного утверждения. У кого-то появится достаточное количество информации, и он обоснованно заявит, что я не являюсь представителем такого-то клана, не интегрирован в такие-то этнические общности и так далее. Являюсь… Не являюсь… Интегрирован… Не интегрирован… В каком смысле? Моя перцепция что-то уточняет. Иногда самым существенным образом. Но она не может претендовать на полноту знания так же, как и рефлексия. То, что я не обладаю интериоризированной (самоосознанной) причастностью к определенным коллективным сущностям, еще не означает отсутствия экстериоризированной (исходящей из неких существенных групповых представлений) причастности. Я с аналитической миссией ездил на полевые исследования в Армению и Азербайджан в 1989 году в разгар армяно-азербайджанского конфликта. Я точно знал, что не являюсь представителем одной из сторон. Но это еще надо было доказать сторонам, участвующим в конфликте. И это было почти недоказуемо. Потому что доказывать это, опровергая гипотезу о моей причастности одной из сторон, — это значит становиться на другую сторону. В любом случае, мне меняли фамилию в документах на нейтральную. У меня были проблемы с выполнением каких-то моих исследовательских пожеланий. Например, я долго добивался возможности жить не в Степанакерте, а в Шуше (опекавшие меня лица просто боялись, что в Шуше меня убьют). Я привожу крайний случай, в котором моя интериоризированная необусловленность определенной клановой, национальной или иной характеристикой — вовсе не означает, что я не обусловлен ею экстериоризированно. Чужие групповые представления ложны? Групповые представления в каком-то смысле не бывают ложными. «Идея, овладевшая массами, становится материальной силой». В качестве таковой ложная идея может трансформировать реальность. А факт трансформации реальности — это уже не нечто ложное. Это факт. Реальность ДЕЙСТВИТЕЛЬНО трансформирована. Заблуждения заблуждениям рознь. Есть заблуждения, которые столь влиятельны, что являются — по своим последствиям — уже частью реальности. У заблуждений есть источник. Этот источник тоже коренится в реальности. Мне может быть приписана некая роль. Действуя, я не могу ИГНОРИРОВАТЬ то, что она мне приписана. Я могу только ПРОТИВОСТОЯТЬ данной инсинуации. Но тогда мое окончательное поведение окажется суммой того, что мне приписано, и того, как я действую, опровергая то, что мне приписано. В результате окажется, что инсинуация повлияла на ход событий. То есть стала частью реальности. Рефлексия, перцепция… Интериоризированное, экстериоризированное… Мало ли какие причудливые переплетения формируют в итоге реальность — в том смысле, в каком она важна для аналитика элиты? Я, например, ну, никак не могу игнорировать внешнюю оценку в вопросе о своей этнической или иной социальной интегрированности. Поскольку эта внешняя оценка является игровым фактором. Она тем самым и не факт, и не выдумка! Вот вам и «ниданетственность» в чистом виде. Между фактом и выдумкой находится общественный предрассудок, он же игровой фактор. Если я играю — как я могу не учитывать игровой фактор? Вмешиваясь в пресловутый «Армянгейт» (скандал с продажей оружия в Армению, описанный мною в книге «Слабость силы»), я субъективно был задан только моим отвращением к «сдаче» исполнителей, выполняющих обязательный для них приказ. Тем же отвращением, которое привело меня в определенный лагерь в рамках полемики по поводу войны в Афганистане. «Сволочи, — говорил я. — Вы сказали солдатам, что они выполняют интернациональный долг. А потом вы же сказали им, что они палачи афганского народа! При этом вы не пострадали. Не повисли в петле, не сели на скамейку Нюрнбергского трибунала. А ваши солдаты и офицеры, став инвалидами, должны страдать социально, психологически. Да еще и метафизически — неявным образом оказавшись греховными. Как вы потом еще раз кого-то в бой пошлете?» То же самое я говорил о сдаче союзников СССР (Хонеккере, Наджибулле) и о многом другом. Но, начав говорить ровно то же самое об участниках «Армянгейта», я, как минимум, должен был ввести в игру фактор, связанный с окончанием в моей фамилии. Сам-то я знал, что мои мотивы не имели никакого отношения к этому окончанию. Что я, напротив, очень долго не хотел ввязываться во все, что касалось данного «гейта», потому что он «Армянгейт». Но при чем тут мое знание о моих мотивах? Да, у меня есть мой внутренний «мотивационный текст» («делаю то-то и потому-то»). Но я, входя в игру, не имею права этот текст абсолютизировать. Я должен осознавать, что игра начнет вторгаться в мой текст, переписывать его, писать что-то на его полях, придавать ему другой смысл. И что, участвуя в игре, я не имею права восклицать: «Вот правда (мой внутренний «мотивационный текст»), а вот ложь (коррективы, внесенные в этот текст игрой)». Я обязан отдавать себе отчет в том, что для кого-то и в каком-то смысле коррективы окажутся важнее текста. В самом деле, Е. Киселев и его бэкграунд играли в «Армянгейте» на определенной (азербайджанской) стороне. Я, отстаивая правду (и государственный интерес) в этом вопросе, оказался для них серьезной помехой. Устраняя эту помеху, они задействовали как «компрометирующее обстоятельство» то самое пресловутое окончание в моей фамилии. Но это не все. Они обратились к именитым армянам, побуждая их дать негативную оценку моей личности. Именитые армяне этого не сделали, а, напротив, сделали прямо противоположное. В этом водовороте мое личное знание о собственных мотивах и степени собственной интегрированности в некие клановые сообщества уже ничего не стоило. Процессу было на это наплевать. Ровно в той же степени, в какой какому-нибудь другому процессу будет наплевать на чью-то личную честность, причастность или непричастность к политико-экономическим распрям и так далее. Так кто чем обусловлен? В чем истина? Как соотносятся перцепция и рефлексия? Имеет ли выявленная мною неопределенность (она же «ниданетственность») ситуационный или фундаментальный характер? Очень часто «ниданетственность» принимает именно фундаментальный характер. Она, во-первых, основана на неполноте знаний. На их рефлексивности. Она, во-вторых, вытекает из того, что перцепция, конечно, предпочтительна, но неокончательна. Персонаж может отрицать свою причастность к чему-то. И он по-своему прав. Но он может быть иначе причастен. Он может считать, что он действует, руководствуясь одними соображениями, а действовать, руководствуясь другими соображениями. В том числе и неосознанно-классовыми, и так далее. Он может действовать, исходя из одних мотивов, но испытывать давление как бы объективных интерпретаций, приписывающих ему другие мотивы. И он не может не учитывать этих интерпретаций. Даже если они являются в каком-то смысле заблуждениями, они влиятельны как заблуждения (мифы). Мифы, овладевшие сознанием элиты, это материальная сила. И потом, являясь заблуждениями в одном смысле, они не являются заблуждениями в другом. Помня все это, будьте «неокончательными» в своих суждениях! Делайте их — но осторожно. Не «шейте» торопливо лишнего тем, о ком вы эти суждения высказываете. Выполняйте обет «ниданетственности», если хотите заниматься элитой. Сформулированные мною четыре этических принципа сдерживают того, кто занимается элитой. Но не травмируют, а скорее очищают. Увы, не все этические принципы таковы. Есть принцип, к которому я сейчас перехожу. Он обязателен. Но не может не оказывать травмирующего воздействия на того, кто его соблюдает. Этот пятый по счету принцип легче всего назвать имморализмом (трансморализмом, аморализмом), а назвав, сослаться на Макиавелли. Но легче — не значит лучше. Раз уж я стал, оговаривая принципы профессиональной этики, использовать русский новояз («ниданетственность», «несчитабельность»), то я продолжу такое занятие и введу в название принципа что-то от метода. Потому что мало назвать принцип — надо еще указать, как этот принцип реализовать в рамках профессионального действия. То есть процедуры исследования. ПЯТЫЙ ПРИНЦИП я назову «НУИЧТОЙСТВО». На массу утверждений вы должны отвечать не только с позиций «несчитательства» («мои суждения не предполагают вердикта») или «ниданетственности» («мои суждения принципиально неполны и не могут быть полными»), но и с позиций этого самого «нуичтойства». А это-то в миллион раз сложнее. Вы рассматриваете модель, в которой ваш актор (он же, между прочим, человек) обвиняется в серьезных грехах. В воровстве, убийстве… А то и в чем-то более серьезном. Если вы занимаетесь любым другим делом, то вы, рассматривая модель, включите в рассмотрение характер деяний. Так или иначе, но вы это включите. А вот если вы занимаетесь аналитикой элит, то вы должны это из рассмотрения изъять. И не только из рассмотрения — из своего внутреннего мира. По крайней мере, до тех пор, пока вы являетесь не человеком только, а исследователем, вошедшим в столь особую сферу. Как это сделать и почему надо это делать? Сначала о том, как это делается. Это делается с помощью того самого «нуичтойства». В вашу модель включен фактор (пусть сколь угодно гипотетический, но ведь фактор!) убийства. А вы должны спросить: «Ну, и что?». Вам придется включать в модели другие грязные факторы (иногда такие грязные, что дальше некуда). А вы должны спрашивать: «Ну, и что?». А почему вы должны так поступать? Потому что таков весь ваш предмет по определению. А если он таков весь по определению, то он уже не таков. Вы скажете, что я играю в парадоксализм? Увы, это не совсем так. Элитная игра трансформирует семантику, а значит, в чем-то и все остальное. Ничего уникального в такой трансформации нет. Когда вы начинаете рассматривать явление под тем или иным внеморальным ракурсом, мораль претерпевает определенный урон. И что делать? Не использовать теорию систем? В самом деле… Льется кровь, страдают люди, а ты говоришь «автоколебания», «контуры», «вынуждающие воздействия». Но если не использовать коварно-внеморальные ракурсы при описании явления, то может ускользнуть суть. А значит, и возможность вмешательства. Вы пытаетесь раскрыть суть межэтнического конфликта. Объяснить, что этот конфликт носит, так сказать, рукотворный характер. Что он не сам загорелся, а его разожгли. Вам отвечают: «Да какие там происки?! Вы народы унижаете! Делаете их марионетками! Посмотрите, какие страсти кипят!» Что вы должны ответить? Если вы не скажете: «Любое воздействие использует собственные частоты системы», — вы окажетесь нечестны и непрофессиональны. А если скажете, то вам в ответ возопят: «Люди страдают, а он про какие-то частоты какой-то системы!» Вот так и с элитными играми. Вы рассматриваете явление под элитно-игровым ракурсом. Рассматривая его подобным образом, вы должны задействовать адекватную — внеморальную — семантику. Вместо того, чтобы сказать «украл», вы говорите «канализировал ресурс». Вместо того, чтобы сказать «убил», вы говорите «изъял элемент из игрового контура». И когда к вам при таком описании лезут с морализациями, вы должны сказать: «Ну, и что?» Это не значит, что при другом описании вы скажете то же самое. Но если вы занялись элитной аналитикой, то «нуичтойство» — это ваш профессиональный, а через это в чем-то и моральный долг. Если он слишком тяжел для вас, смените профессию. По отношению к очень многому вы должны говорить: «Ну, и что?», если хотите заниматься элитой. Для вас наркотрафик — это жуть кромешная и особо тяжкое преступление. А для того, кого вы исследуете, это позиция в игре и не более. Увы, есть масса вещей, которые аналитик элит должен понимать и одновременно не имеет права утверждать. Он должен понимать, что наркотрафиками балуются все спецслужбы мира при негласной санкции своих государств. Но поскольку санкция негласная, то какое он имеет право это утверждать? «Поскольку известно, что все…» Стоп! «А откуда это вам, батенька, известно? Не смейте нас марать! Вы приписываете нам бог знает что, а мы любого наркобандита в клочья порвем, мы это избирателям обещали и вот-вот начнем делать!» Или скажут: «Докажите!» А что значит это доказать? Так как же описывать эту игровую реальность? Как возможность! Только как возможность. Мне она приснилась в этом виде, еще десятку международных исследователей. Кое-кто из высокопоставленных спецслужбистов что-то об этом сказал. Это наш коллективный сон. Вас интересуют наши сны? Милости просим в мир этих снов! Вы считаете, что они точно коррелируют с реальностью? Ну, так это вы считаете! Это ваше дело! Пока вы читаете и думаете, считайте ради бога. Я очень рад. Но, когда вы начнете делать выводы, я скажу, что нельзя на основе моих снов делать выводы. И буду клятвенно утверждать, что это сон, и не более. А что еще прикажете делать? Рассекречивать внутреннюю регламентационную базу всех основных государств мира? И рассказывать, что правительства кое-каких стран санкционируют наркотизацию пяти процентов своего населения во избежание социальных сценариев, которые им кажутся более высокоиздержечными? Так это мой сон. Слышите? Сон. Научитесь сначала жить в этом сне. Привыкните к нему. Поймите его правила. А потом тихонечко прощупывайте связи между ним и действительностью. А иначе, между прочим, может оказаться, что вся действительность, в которой вы живете, — это сон, а сон и есть явь. Как там сказал поэт? «Заключите меня в скорлупу ореха, и я буду чувствовать себя повелителем бесконечности. Если бы только не мои дурные сны!» Если бы я не считал, что мои дурные сны чему-то помогут, я бы их не рассказывал. И постарался бы их не видеть. Но я считаю, что они помогут. Чему? Созданию некой культуры понимания, которая может стать фундаментом для реального обеспечения безопасности моего государства, — вот чему. А теперь скажите мне, пожалуйста (хорошенько при этом подумайте, но ответьте): существование так называемых «частных армий» (они же частные военные корпорации и т. д.) — это мой сон? Описание этих частных армий в сотнях мемуаров — это мой сон? Респектабельные исследования по этому поводу ведущих университетов мира — это мой сон? Работа Хуана Зарате «Появление нового пса войны: частные международные охранные компании. Международное право и новый международный беспорядок» (Zarate Juan Carlos. The mergence of a new dog of war: private International security companies, international law and the new world disorder // Stanford journal of International law. Stanford, 1998. Winter. Vol.34. № 1. P. 75–163.)… Она мне приснилась, эта работа? А заодно она приснилась издателям из Стэнфорда? Книга Тима Спайсера, организатора одной из самых крупных «частных армий», вышедшая в 2000 году, — это мой сон? И то, что эта армия называется «Сендлайн Интернешнл» и продолжает преуспевать, — это тоже мой сон? Так вот она, эта книга! Называется «Неортодоксальный солдат». Лежит у меня на столе. Я жмурюсь, трясу головой, умываюсь холодной водой… Нет, это не мой кошмар. Вот они, реквизиты: Tim Spicer. An Unorthodox Soldier. Mainstream Pub. Co. Ltd, 2000. ISBN 1840183497. Хотите — почитайте. Заодно почитайте, если хотите, специальный доклад Экономического и Социального Совета ООН по охранным компаниям и проблеме международных норм, регулирующих наемничество. Опубликован 20 февраля 1997 года. Это тоже мой сон? В том-то и дело, что возникла новая среда… Новая элитная среда, будь она трижды неладна! Но она возникла! Возникла ведь! Она реальна, не так ли? Она ничем не регламентирована! Не существует, вдумайтесь, международной нормативной базы, регулирующей деятельность этих спецэлитных структур. Они регистрируются в определенной стране и получают, в соответствии с законами этой страны, лицензию на определенные виды деятельности. И при этом чаще всего работают в других странах. Причем специфика их «работы», как правило, не предполагает какого-либо жесткого контроля за тем, когда и насколько они выходят за рамки своей лицензии. И в том числе за рамки конвенциональных методов проведения военных операций. А кто их использует-то? И почему нет ни регламентов, ни прочих регулятивных вещей, а армии эти есть и процветают, приумножаются, захватывают новые позиции? С духовной точки зрения, это объясняется глубочайшим кризисом мироустройства. С политической и социальной — выходом на арену новых элит. Да, качественно новых, повторяющих при этом какие-то черты древности. Так это и есть вторичная архаика. С культурной точки зрения, в ней-то и дело. А с прагматической точки зрения, все объясняется целесообразностью. Ею и только ею. Государства (в том числе государства, зарегистрировавшие частную военную корпорацию), как правило, нанимают ее в тех случаях, когда по каким-либо причинам считается политически невыгодным или нецелесообразным прямое государственное участие в «урегулировании» проблем в той или иной стране или регионе. В этом случае сама охранная компания, а не государство-наниматель, несет формальную ответственность за нарушения конвенций и законов. Разумеется, лишь в том случае, если найдется, кому ее «поймать за руку». Так ведь кому захочется ловить подобное за руку? И что изменится, если поймают? С геополитической точки зрения, анализируемые мною реальные феномены (прошу прощения, сны!) объясняются двумя причинами. Распадом колониальной системы и распадом блоковой системы мироустройства. Можно (и, видимо, стоит, не правда ли?) написать целую книгу, анализируя сны (видимо, коллективные, не так ли?), в которых эти самые частные военные корпорации начинают зарождаться в трещинах определенного мироустройства, расширять эти трещины, расти как грибы после дождя, сговариваться друг с другом, образовывать сетевые структуры… Ах, это мои дурные сны? О, эти сны! Сны о связях отставных военных с действующими… О переплетении военно-разведывательных инфраструктур, о негласном использовании госресурсов… Я что, негодую? Я зову на баррикады? Я гадости в газетах рассказываю? Рассказывают Спайсер и Зарате. Я только читаю и вижу сны. Сны о том, как в эпоху деколонизации интересующий меня процесс запустили вовсе не в ужасном Советском Союзе (где его по определению быть не могло), а в благородных США. А также в Великобритании (наиболее к этому предрасположенной по ряду причин) и в ЮАР (где к этому были особые основания). Сны о том, как распад СССР придал процессу совершенно другую динамику. Может, для этого и нужен был этот самый распад СССР? Сны о том, как к началу XXI века, помимо множества южноафриканских, британских и американских частных военных корпораций, на мировом рынке частных милитарных услуг стали активно действовать такие же корпорации из Израиля («Левдак»), Франции («КОФРАС»), а также ряд аналогичных корпораций, созданных в Германии и Голландии. Я разглашаю закрытую информацию? Полно вам! Выйдите в Интернет и свяжитесь с указанными структурами. Они рекламируют свою деятельность, ищут заказчиков. У нас сейчас через Интернет и суперзакрытые преступные группы перестукиваются. Одна «Голубая роза» чего стоит! Она мне тоже приснилась? Так то — «Голубая роза» (50 тысяч долларов за убийство ребенка онлайн)! А это — респектабельнейшие структуры! Я иронизирую? Отнюдь! Я анализирую новую реальность. Слышите вы? Я АНАЛИЗИРУЮ НОВУЮ РЕАЛЬНОСТЬ, А НЕ КАКИЕ-ТО ТАМ ФАНТОМЫ СОБСТВЕННОГО СОЗНАНИЯ. Впрочем, нет, я забылся… Я вижу сны. Я вижу сны с тиражируемыми по всему миру, рекламируемыми, маркетируемыми реквизитами сотен таких частных армий. Например, десятка южноафриканских частных военных компаний, из которых наиболее известна Executive Outcomes (EO), созданная отставными военными в ЮАР еще в период власти де Клерка. Первоначально она имела численность всего лишь около 500 человек боевого состава (пять рот спецназа?). Впоследствии она резко расширилась и позже (в 1989 году) была зарегистрирована также в Великобритании. ЕО отличилась активным участием в конфликтах во многих «горячих точках» Африки, прежде всего в Анголе и Сьерра-Леоне. К началу XXI века она уже могла оперативно мобилизовать для выполнения контракта до 2 тысяч человек, служивших в элитных частях армии и полиции ЮАР, имеющих боевой опыт и военное образование. Это уже не роты и даже не батальоны. Это укомплектованный полк. В послевоенные годы легендарный Отто Скорцени клялся, что он сможет в десять дней мобилизовать четыре-пять дивизий такого спецназа. Это тоже сон? Может быть, это чьи-то амбиции, но не сон. А что, полка спецназа в одной из частных структур недостаточно? А если их сто, то речь идет об армиях, не так ли? В буквальном смысле слова об армиях. Что касается этой самой ЕО, то она постепенно объединила в рамках своего рода холдинга Strategic Resources Group около 80 дочерних компаний, занятых не только в сфере частных милитарных услуг, но и в других областях (добыча алмазов, нефти и золота, строительство аэродромов, мостов, дорог, линий связи, доставка конвоев с гуманитарными грузами и пр.) и действующих во многих странах Африки, в том числе в Малави, Замбии, Гане, Уганде. Так это уже особые империи? Так надо понимать? Это вам не Билл Гейтс. Это похлеще. А если одно с другим соединится? Я не ужастики рисую. Я открываю глаза на новую реальность XXI века. То есть… вижу дурные сны. Но так ли много этих самых узелков? Хватает ли их для сети? Официально сообщается, что в Великобритании в настоящее время имеется несколько десятков таких крупных «узелков». Наиболее известные из них созданы бывшими офицерами элитных подразделений Специальных воздушных сил (SAS). Это, например, Control Risks и Sandline International (SI). Последняя была зарегистрирована как дочерняя компания Executive Outcomes. В частности, SI была создана в 1995 году упомянутым выше отставным офицером SAS Тимоти Спайсером при участии его покровителей из высшего эшелона SAS. Компания, как сообщается, участвовала в специальных операциях в Анголе, Намибии и Уганде, в попытке военного переворота в Папуа-Новой Гвинее в 1996 году, в военном перевороте в Сьерра-Леоне, вернувшем к власти свергнутого президента Ахмада Каббу, а также в неудачной попытке военного переворота в Экваториальной Гвинее. Это все тоже дурные сны? Наверное, я вижу их вместе с официальными лицами! Например, вместе с тогдашним главой МИДа Великобритании Робином Куком, активно и открыто поддерживавшим SI вместе с другими представителями британского истеблишмента. Почему открыто? Потому что деятельность SI постоянно вызывала международные скандалы! И Куку приходилось объясняться. Ну, так он и объяснялся, заявляя, что данная замечательная компания занимается исключительно «восстановлением демократии». В частности, по поводу переворота в Сьерра-Леоне Кук публично заявил, что SI вернула к власти «избранного всенародным голосованием президента». Но после всех перечисленных скандалов Спайсер переименовал SI с ее уж слишком подмоченной репутацией — в Aegis. Впрочем, это тоже мои сны, и не более. Но я вижу их вместе с Рамсфелдом и Вулфовицем. Это они дали высочайшую оценку вкладу Aegis в дело глобальной «восстановительной демократии». И оценку эту они дали публично. Между прочим, оценкой дело не ограничилось. В 2004 году Пентагон заключил с Aegis вполне официальный и открытый контракт на 293 млн. долларов на «обеспечение безопасности, сбор аналитической информации в области антитеррора, осуществление услуг по эскорту грузов и сопровождению официальных лиц» в Ираке. Я вижу этот нескончаемый сон. В нем ко мне приходит в гости одна британская компания за другой… Defence system ltd, Gurka Security Guards… Хочу проснуться. Просыпаюсь… Тут же засыпаю снова. И оказываюсь в США. Там частных военных компаний еще больше, чем в Великобритании. Среди старых таких компаний стоит упомянуть Winall Corp, которая во время войны во Вьетнаме строила военные базы и обеспечивала прикрытие отступающих частей американской армии, а с 1975 года занимается подготовкой национальной гвардии и армейских частей Саудовской Аравии и спецоперациями в пользу США в Центральной Америке и на Ближнем Востоке. В 1987 году высшие отставные американские генералы создали компанию Military Professional Resources Inc. (MPRI), которая специализируется на научно-аналитических военных исследованиях, а также на конкретных военных и разведывательных операциях и имеет в своем составе более 2 тысяч бывших офицеров американской армии. В 1994 году MPRI, с санкции правительства США, подписала с хорватским правительством контракт «на реорганизацию структуры армии и министерства обороны» Хорватии. Однако MPRI, кроме указанных задач, заодно нелегально поставляла в Хорватию оружие в обход эмбарго ООН, обучала офицерский состав, вела разведку и планировала военные операции. И в итоге, как затем признавали хорватские генералы, «сыграла решающую роль в возрождении хорватской армии и возвращении захваченных сербами хорватских территорий». В дальнейшем MPRI стала одной из трех американских частных военных компаний, которые по поручению правительства США готовили, обучали и оснащали современным оружием войска Боснийско-Хорватской федерации в Боснии и Герцеговине. Короткое пробуждение… Снова сон… И вот я уже в Либерии. И одновременно в Ираке. А еще и в Судане. Как это я могу быть там одновременно? Но ведь это сон, и все может быть! Во сне мне является еще одна крупная и широко рекламируемая американская частная военная компания — DynCorp International. Это она несколько лет назад вела обучение и вооружение правительственных солдат в Либерии. Это она после свержения Саддама Хусейна получила контракт на подготовку полицейского контингента в Ираке. Это она забавлялась в Судане. Летом 2006 года было официально объявлено, что эта компания с начала 2007 года займется подготовкой повстанцев в Южном Судане и Дарфуре и что Госдепартамент США выделил ей на эти цели 40 млн. долларов. А сон по поводу «Черной воды»? Его сейчас весь мир видит. Весь мир лихорадит скандал вокруг американской частной военной компании Blackwater Security Consulting («Блэкуотер секьюрити консалтинг»), основанной в 1997 году бывшим офицером военно-морского спецназа США Эриком Принсом. Сотрудники «Блэкуотер» обвиняются в немотивированном убийстве в середине сентября 2007 года по крайней мере 19 мирных граждан Ирака на улицах Багдада. И про что нам этот сон повествует? Во-первых, про беспредел. По показаниям свидетелей, полученным в ходе расследования, сотрудники компании, нанятые для охраны американского персонала в Ираке, неоднократно открывали огонь на поражение в случаях, когда лишь подозревали наличие угрозы охраняемым лицам. Во-вторых, про безнаказанность беспредела. Правительство США отказалось подчинить виновников этого убийства иракской юрисдикции, заявляя об их неприкосновенности. С одной стороны, все это скверно, а с другой… Накажешь хоть одного наемника — все сделают ручкой. И окажутся в каких-нибудь других местах. И все же, ввиду международного резонанса скандала, 22 сентября 2007 года судебные власти США начали в отношении «Блэкуотер» собственное расследование. Компанию заподозрили в контрабанде в Ирак оружия, которое затем попадало к курдским боевикам. А 1 октября 2007 года был обнародован доклад демократического большинства в Конгрессе США, согласно которому контрактники из «Блэкуотер» с 2005 года участвовали в 195 вооруженных инцидентах, причем в 84 процентах случаев открывали огонь первыми. Сон мой все длится и длится… Длится и разбухает… Британская The Independent 20 сентября 2007 года сообщила, со ссылкой на представителей спецслужб, что только в Ираке сейчас работает более 48 тысяч сотрудников частных военных компаний и что объем мирового рынка милитарных услуг, предоставляемых такими компаниями, превысил 120 млрд. долларов в год. Для сравнения стоит указать, что эта сумма составляет почти 8 процентов ВВП такой страны, как Италия. Вам мало 120 миллиардов? Скоро будет 500 миллиардов. Потом пара триллионов. Впрочем, это только мой сон. Одновременно со мной его видят высокие военные чины, наделенные официальными полномочиями. Видят и подчеркивают, что только такие частные армии могут быть эффективны в «горячих точках». О, мой сон! Куда ты меня завел? «А что делать?», — говорят мне во сне натовские многозвездные генералы. Частные компании «нанимают» на контрактной основе боевой состав высокой квалификации и действуют фактически вне международных конвенциональных правил ведения войны. И потому, выходя (иногда очень далеко) за рамки этих правил, оказываются «гораздо более эффективны» в боевых операциях, чем военные подразделения регулярных армий. Как хотелось бы проснуться… Просыпаюсь… Спецдоклад Экономического и Социального Совета ООН по охранным компаниям лежит у меня на столе. Может быть, это тоже сон? И то, что непосредственное участие таких компаний в решении ключевых проблем молодых государств может привести к установлению их контроля над безопасностью, экономикой, финансами и торговлей этих государств… И то, что в обмен на военные услуги компании данного профиля получают концессии и иные преференции… И то, что эти преференции позволяют таким компаниям занять доминирующие позиции в национальных экономиках стран, которым они оказывали по контракту эти самые «военные услуги»… И то, что потом позиции сохраняются и по истечении срока контракта… И то, что это сохранение обеспечивает «неформальный контроль» страны, в которой зарегистрирована частная военная компания, над национальным хозяйством страны контракта… Это все только мой сон. Почему-то совпадающий со спецдокладом ООН. И все же я буду это считать сном. Я буду считать сном и все то, что мне привидится по ходу этой книги. Потому что в этом моя моральная обязанность аналитика элиты. Я должен раскрыть реальность, раскрыть ее хотя бы в том регистре, в каком она сама себя раскрывает. И осмыслить, слышите, осмыслить, а не осудить. Потом, может быть, я захочу ее еще и осудить, но это потом. Если я с ходу начну ее осуждать, я ее не пойму, не высвечу. А если я хочу ее понять и не прийти в ужас, понять и не стать Савонаролой, деревенским сумасшедшим или записным моралистом, то я должен постоянно спрашивать себя: «Ну, и что?» А что еще прикажете делать? Бежать в Интерпол? Так там все знают и без меня. Подымать мировую революцию, которую, наверное, возглавят все эти частные структуры, превращающиеся на глазах в сетевую суперструктуру? Чувствуете зловещий юмор эпохи? Но это же ваша эпоха! Ваша — и моя тоже. Районный правоохранительный чин приезжает к своему высокому правоохранительному боссу на машине марки «Бентли» и паркует ее у входа в правоохранительную организацию. Это мне приснилось? Я должен бежать в налоговую инспекцию? Но тогда я ничего не пойму в происходящем. А если я хочу понять, то я должен представить это как сон. Спросить себя во сне: «Ну, и что?» И может быть, тогда сон мне что-то расскажет. Не о «негодяе на «Бентли», которого надо осудить», а о реальности. О страшной российской реальности. О первоначальном накоплении капитала… О черной дыре регресса… Может, этот-то, на «Бентли», такой же заложник данной реальности, как и я, и нам надо вместе из нее выбираться? В любом случае, это наша реальность. И я должен ее понять. Понять — не значит оправдать. Луддиты рушили машины, а Маркс понимал реальность. Но, чтобы ее понять, он должен был увидеть машины, не зарыдать с ходу, а спросить себя: «Ну, и что? Что это все такое?» Морально и интеллектуально аналитик элиты должен принять обет «нуичтойства». Так же, как и другие обеты. Этот обет намного мучительнее других. Но он абсолютно необходим. Иначе все описание будет глубочайшим образом извращено. И тогда лучше ничего не описывать. Поэт опишет ужас ядерного взрыва над Хиросимой. Физик — совокупность газодинамических процессов с определенными параметрами. Может быть, этот физик еще сильнее переживает боль Хиросимы. Ну, и что? Либо он физик, либо… Либо пусть идет в монастырь. Может, уже пора? Сноподобная реальность расширяется. Я вижу теракты, похожие на спецоперации. Ну, и что? Наверное, мне приснилось, что закрытые уставы определенных спецслужб позволяют в определенных ситуациях проводить теракты-провокации против населения стран-союзников для оправдания своих последующих «операций вторжения». Но если мне это приснилось, то одновременно с одним из самых профессиональных спецслужбистов мира американцем Реем Кляйном. Это он после лондонских взрывов признал подлинность так называемого полевого устава «ПУ 30-31В», дающего такое право. Ему никто не заткнул рот. О, мой сон! Ты длишься и длишься! Ну, и что? Ну, и что? Заполошные конспирологи в заказных работах описывают разного рода негодяйства. Ну, и что? Во-первых, это не те негодяйства, которые они описывают. Это научно другое, слышите? Описывать происходящее в рамках моделей, где противопоставляются нормативная реальность и патология, — значит научно лгать. А что может быть аморальнее лжи? На самом деле ситуация намного страшнее. Да, она страшнее, но она другая (рис. 16). Что значит описывать другую реальность на языке патологии? Это значит лгать, вести по ложному следу. Между тем, как только мы перестанем «нуичтойствовать», мы автоматически — на уровне языка, парадигмы и дискурса, семантики, логики и образности, — начнем возвращаться в мир, где нет другой реальности, а есть норма и патология. То есть мы скатимся в ложь, если не станем говорить «ну, и что?» 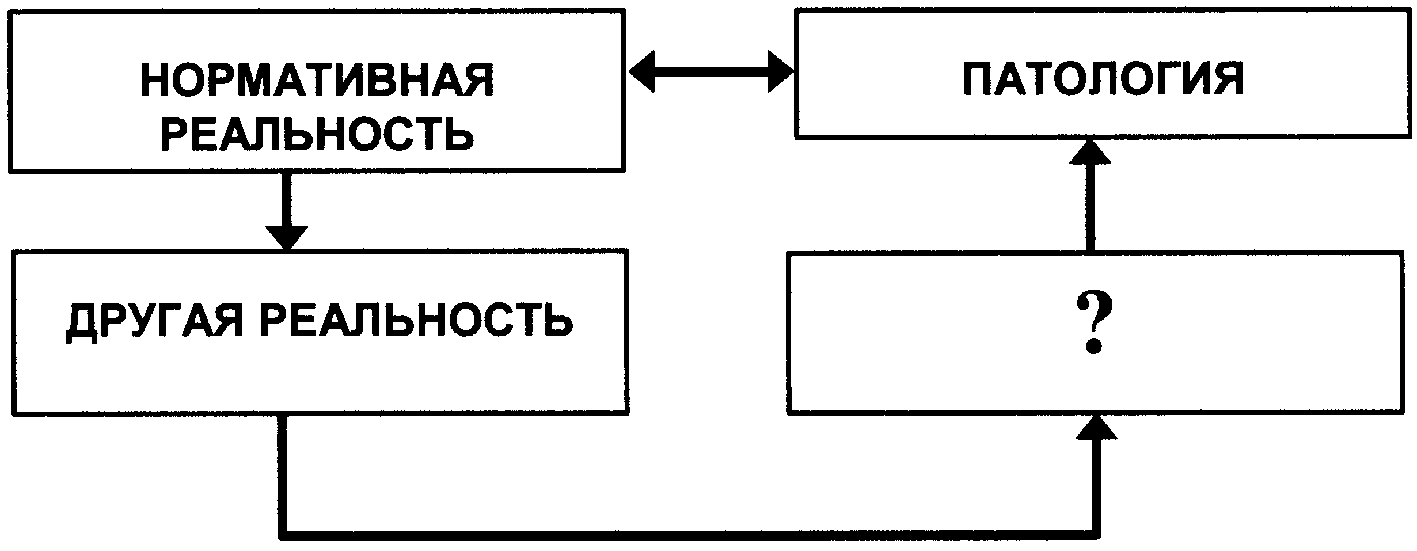 Рис. 16 Таков будет научный результат. А моральный? Сочетаемо ли сознательное искажение истины с восстановлением моральной нормы? Что это тогда за мораль? Во имя восстановления морали вы игнорируете наличие другой реальности. Но вы же не воюете с этой другой реальностью! Вы игнорируете ее наличие и тем самым ей всячески потворствуете. Так ведь? Кроме того, игнорируя эту другую реальность, вы предаете ее обитателей. Потому что они-то населяют эту другую реальность. А если оказывается, что ее нет, то они никуда не исчезают. Их просто приходится разместить на другой территории. На территории социальной нормы они прописаны быть не могут. Значит, их придется прописать на территории патологии. Но это не бесплатное удовольствие. Оно в любом случае не бесплатное, поскольку нахождение на территории патологии, так сказать, «карается по закону». Люди не совершили того преступления, которое им вменяется по факту размещения на территории патологии. Может быть, они совершили что-то другое, но не это. Но вы им вменяете это. Вы лжете. И порождаете своей ложью конкретную несправедливость по отношению к конкретным людям. Но это еще не все. Вы выводите из сферы ответственности тех, кто отдал этим людям соответствующие приказы. Если люди размещены на территории патологии, а не на территории другой реальности, то приказов как бы и не было. И одни вместо исполнителей небезупречного воинского приказа становятся отвязанными бандитами. А другие (отдавшие приказ) просто выводятся из рассмотрения, а значит, ни за что не отвечают. Прятать так концы в воду — это моральный подход? Мне скажут, что и в рамках другой реальности есть своя мораль. Выходящий за ее рамки именуется «военный преступник». Соглашусь, но спрошу: так кто преступник-то? В Нюрнберге судили «шишек», а не солдат. Да, и солдат может быть военным преступником. Но вместе с «шишками», а не вместо них. Кроме того, между однозначным военным преступлением и записной военной доблестью — слишком широкая зона. В нее попадает почти вся война. Недаром говорят: «На войне — как на войне». Где современная война — там и ее псы. Почему обязательно их надо или обвинять, или оправдывать? Почему попытка понять явление означает его оправдание? «Она, жизня, Наташка, виноватит», — говорил Григорий Мелехов Наталье. И добавлял: «Неправильный у жизни ход, и, может, и я в том виноватый». Я не великий душою шолоховский герой — малограмотный казак с Тихого Дона. Я интеллектуал. И я твердо знаю, что мой моральный долг — понять. Что с этого начинается все. И осуждение, и преодоление. И что без этого ничего не бывает. Все эти «псы войны», вся эта «псократия» и «псореальность» должны быть, прежде всего, адекватно описаны. Далее должно быть сказано, что если есть виноватые, то это уж никак не стрелочники. Есть ли виноватые — это отдельный вопрос. Может оказаться, что «другая реальность виноватит». Но если мы посмотрим этой другой реальности в глаза (а это нельзя сделать, не разобравшись в ее специфике и самом факте ее наличия), то окажемся на рандеву с Историей и Игрой. И должны будем менять «неправильный ход жизни», должны будем признать, что и мы «в том виноватые», что он такой. Это все не моральный подход? Понять другую реальность. Ее структуру, генезис. Увидеть, куда она тянет мир. Воздействовать на нее, нащупав какие-то ее слабые места. Выдвинуть альтернативные мироустроительные проекты, в которых ей не будет места. Найти для нее новое место, если не удается просто ее избыть. Все это морально в моем понимании. Лгать же, что ее нет, и лживо обвинять стрелочников, делая их демиургами, — это бессовестное псевдоморализаторство. Повторяю — если вы не можете сказать «ну, и что?», не занимайтесь элитами. Займитесь чем-то другим. Если же вы все-таки занялись элитами, вы ответственны за то, чтобы понять эту другую реальность. И вы не имеете права выдавать ее жертв за ее творцов. А потому давайте заглянем в эту самую другую реальность, как ее ни называй (Зазеркалье или Зесля из моей книги «Слабость силы»). Такое заглядывание в жанре публичной аналитики я называю «снами». Давайте вместе увидим сны. И, видя их, научимся понимать. А не огульно осуждать, извращая суть дела и лишая себя любой возможности на что-то воздействовать. |
|
||
